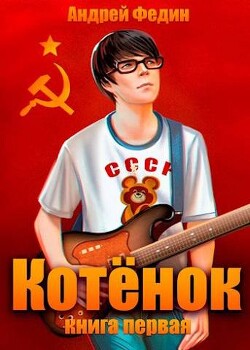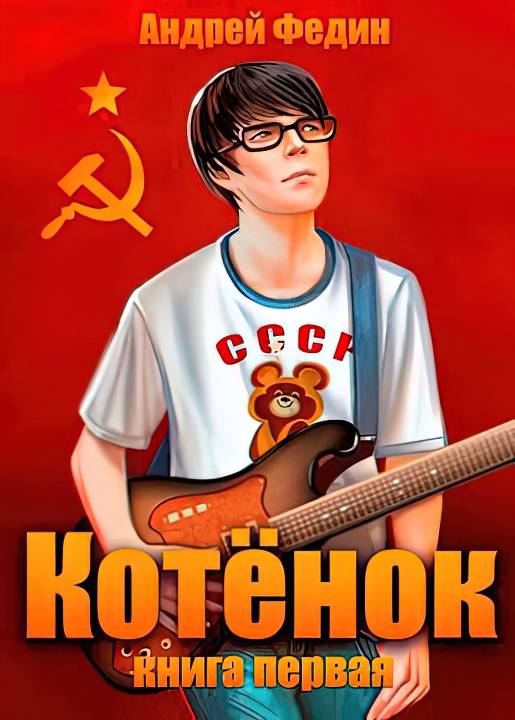Ударил ладонью по кнопке на истерично затрезвонившем будильнике.
В комнату заглянула мама.
— Ваня, пора вставать, — сказала она. — Завтрак уже на столе.
* * *
Третье сентября тысяча девятьсот восемьдесят первого года (как и в прошлый раз) началось для меня с плотного завтрака: мама проснулась раньше, чем я, и испекла оладьи.
Мы сидели за кухонным столом. Я не отводил взгляда от маминого лица. Слушал мамины наставления о том, чем именно должен сегодня пообедать. Жадно глотал свежую выпечку, будто голодал до сегодняшнего утра не меньше недели. Не вспоминал о диете и о запрете на «мучное и сладкое». Потому что снова полюбовался в зеркало на своё очкастое отражение, когда перед завтраком чистил зубы. «Какая для меня сейчас может быть диета? — мысленно удивлялся я, поглядывая на свои тощие ноги с острыми коленями. — Мне есть нужно, как не в себя. И делать зарядку, чтобы превратиться из задохлика в человека». Макал оладьи в черничное варенье, шумно запивал их горячим чаем.
И всё больше помалкивал: не пугал маму своим «странным» поведением — лишь изредка в ответ на мамины слова кивал головой и улыбался. При этом мысленно настраивал себя на поход в школу. Потому что решил: во сне я поглощаю оладьи или наяву — это не так уж важно. Но на уроки я сегодня пойду. Не потому что соскучился по одноклассникам. И не для того, чтобы получить знания и подготовиться к выпускным экзаменам. А чтобы не расстраивать маму. Я хорошо помнил, как легко она «пускала слезу» (мама всегда была впечатлительной). Ни в зрелом возрасте, ни будучи подростком, я не любил, когда мама плакала. И не хотел снова пережить подобную сцену даже в медикаментозной галлюцинации.
Мама попрощалась со мной, поцеловала меня в щёку и убежала на работу. Доедал я оладьи в одиночестве. Посматривал в окно на затянутое серыми тучами небо, на сосны и ели, следил взглядом за гонявшимися друг за другом по ветвям деревьев белками. Вспоминал о том, что в нашей первомайской квартире не было подобного вида из окна (там окна выходили на шумную проезжую часть). Размышлял, что буду делать, если проснусь в Рудогорске и завтра, и послезавтра. В голове вертелась мысль: «Что если я теперь здесь навсегда?» Я помнил, что уже не надеялся вернуться из больницы домой. Но и не предполагал тогда, что снова окажусь в этом затерянном в карельской тайге среди озёр и болот городе (да ещё и в далёком прошлом).
— Ладно, — сказал я, отодвинул пустую чашку. — Хватит жевать сопли, Ванюша. Помни: ты теперь ученик средней школы. В ближайшие полчаса тебе нужно собрать портфель. И погладь нормально свои брюки — не позорься в штанах с двойными стрелками! Будешь сегодня гладить, как в старые времена: с мокрой марлей.
Ухмыльнулся.
— И кстати, Ванюша! — добавил я. — Не забудь перед уроками написать домашку. Потому что вчера ты о ней не вспомнил. Можно, конечно, списать её у Алины Волковой. Но это позорно… для тебя, человека с высшим образованием. Ведь ты справишься с детскими примерами самостоятельно? Не позорь мою седую голову.
* * *
До школы я добирался быстрым шагом. Не потому что опаздывал на уроки. А потому что сентябрь в Рудогорске был вполне осенним месяцем. Капли росы блестели на листве черничных и брусничных кустов в лесочках вдоль дороги. Ветер приносил холодный воздух со стороны так и не прогревшегося за лето озера, на берегу которого расположился город. Мрачное небо грозилось обрушить мне на голову капли дождя. Но пар изо рта не вылетал — и на том спасибо. «А в Первомайске сейчас солнечно, — подумал я. — Мы там обычно купались в реке до начала октября». Втянул в плечи голову — спрятал от ветра шею. Моя куртка вчера осталась в школе. Пиджак я не надел. Мою спину и живот сейчас согревала лишь тонкая ткань рубашки и мысли о горячем чае. А сердце грел приколотый к нагрудному карману комсомольский значок.
Главной особенностью Рудогорска я всегда считал его необычную для Советского Союза архитектуру (город в прошлом десятилетии спроектировали и построили финские строители). И то, что пяти- и девятиэтажные жилые дома Рудогорска с двух или даже с трёх сторон окружала настоящая тайга (в которой росли ягоды и грибы, бегали зайцы и белки). Летом (во время долгого полярного дня) здесь едва ли не круглосуточно светило солнце. А долгими зимними ночами город днём и ночью блистал яркими огнями фонарей. Зимы здесь всегда случались снежными. Весна обычно плавно перетекала в осень. Лето тоже ежегодно наступало — часто лишь календарное. Жара в летние месяцы случалась редко. Местные поговаривали, что лето в городе… бывает. И обязательно добавляли: «Вот только я в этот день работал».
Свежий ветерок пригладил на моей голове волосы — напомнил, что нужно подстричься. Я ещё на углу своего дома влился в многоголосый поток школьников. Вышагивал по едва ли не идеально ровному асфальту тротуара (финны хорошо строили) и наблюдал за тем, как к зданию школы спешили наряженные в одинаковую школьную форму дети. Разглядывал мальчишек, щеголявших по улице в синих куртках и брюках. Посматривал на девчонок, у которых из-под разноцветных болоньевых курток выглядывали коричневые подолы платьев. Здесь и там видел яркие алые пятна пионерских галстуков; замечал на одежде детей блеск октябрятских и комсомольских значков. Вместе с группой старшеклассников прошёл через гостеприимно распахнутые деревянные ворота. Совсем уж черепашьим ходом добрался до дверей школы.
Увидел: группа пионеров с повязками дежурных на руках преграждала путь выстроившимся около входа в школу ученикам. Останавливали даже старшеклассников. Дежурные по школе проверяли у школьников наличие сумок со сменной обувью.
— Сменка где? — спросила у меня черноволосая пионерка (ученица шестого или седьмого класса).
Она сверлила меня взглядом — исподлобья.
Я указал рукой на свои до блеска начищенные туфли.
Заявил:
— Сменка уже на мне. Неужели не видишь?
Пионерка нахмурилась. Скосила взгляд на «прикрывавшего» группу дежурных завуча (та застыла неподалёку от школьных дверей, сонно посматривала на заходивших в школу детей). Покачала головой.
— Сменку нужно приносить с собой, — сказала пионерка. — В сумке!
Кивнула, будто в подтверждение собственных слов. Сжала кулаки — спрятала в них большие пальцы. Нервно лизнула губы.
Я ответил:
— Моя сумка висит в гардеробе. Вместе с курткой. Разве не видишь: я уже переоделся!
Топнул каблуками.
— Дай пройти, злобный ребёнок, — потребовал я. — На улице уже не май месяц. А я стою здесь в тонкой рубашке.
Шагнул вперёд — дежурная не посторонилась. Она решительно покачала головой. С двух сторон к ней придвинулись насупленные соратники — готовились совместными усилиями сдержать мой натиск.
Чей-то кулак подтолкнул меня в спину.
Я едва не свалился на дежурных — привлёк внимание завуча.
— Крылов! — воскликнула она. — Явился.
Строго осмотрела меня с ног до головы (будто тоже искала сменную обувь).
— Михаил Андреевич тебя искал, — сообщила завуч. — Просил, чтобы ты до звонка явился к нему в кабинет.
Я кивнул.
Сказал пионерам-дежурным:
— Слышали, злобные дети? Меня директор ждёт.
Погрозил им пальцем.
— Не злите начальство! — сказал я.
Громыхнул дипломатом.
Малолетние стражи школьного порядка неохотно расступились — я поспешно шагнул в тепло вестибюля.
* * *
Протёр рукавом рубахи запотевшие стёкла очков. Скрипнул шарнирами, сунул наконечники заушников в давно нестриженые волосы на висках, ощутил прикосновения к коже холодных носоупоров. Моргнул. Прошёлся мимо стендов с расписанием уроков, мимо больших ростовых зеркал — оценил свой внешний вид, признал его удовлетворительным (особенно мне понравились мастерски отглаженные стрелки на брюках). Мазнул взглядом по украшавшей стену большой мозаике (две трети пространства в которой занимало с детства знакомое мне лицо вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ульянова-Ленина). Свернул в длинный узкий коридор, что шёл параллельно главному переходу в младший корпус — в конце этого прохода пряталась неприметная дверь в кабинет директора.