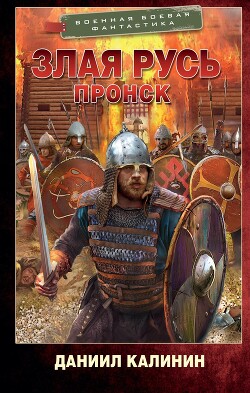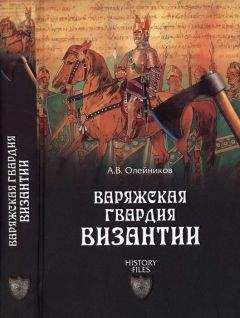Роман ничего не ответил — и тогда Твердило, воодушевившись, пошел в наступление. Голос его стал тверд — и было заметно, что русич явно верит в свои слова:
— А теперь подумай о том, что сделает базилевс с тем гвардейцем, кто решится сейчас поднять руку на вождя крестоносцев — пусть даже это будет Боэмунд, сын Гвискара! Впрочем, сей гвардеец вряд ли переживет бой с охраной норманнского князя… Ну, а если и переживет, бросив в сечу всю сотню, то он тем самым объявит войну крестоносцам от имени императора! И все ее жертвы окажутся на его совести… В свою очередь, Комнин сделает все, чтобы войну остановить — и первым делом отдаст крестоносцам головы всех, кто поможет тебе, Роман! Включая и твою собственную — это даже не обсуждается…
Сын Добромила наконец-то посмотрел прямо в глаза побратиму — и спокойно ответил:
— Я не собираюсь совершать глупости и подставлять под норманнские мечи своих русичей. Как и простых ромеев… И ты совершенно точно прав — я ничего не смогу сделать с норманнским князем в его лагере! Но знаешь, на поле боя случается всякое — так что я уже запросил перевод в войско, что будет сопровождать крестоносцев в Азии.
Немного помолчав, Самсон продолжил:
— Кылыч-Арслан уже разгромил одну рать крестоносцев — пусть и крестьянский сброд. Но он совершенно точно не отдаст Никею без боя и другим латинянам! А значит, мне представится еще много возможностей исполнить обещание, данное у Диррахия…
Твердило, обескураженный ответом побратима, не сразу нашелся, что сказать. Немного помолчав, он уже было собрался встать из-за стола — но после вновь заговорил, с явным разочарованием и горечью в голосе:
— Твой отец был христианином, как и мы с тобой. И он не чтил языческих обычаев кровной мести! И ныне, будучи на Небесах, он не ждет от тебя убийств во имя ее! Как ты не понимаешь⁈ Добромил любил тебя больше жизни, берег, как мог — хотя и не противился вступлению в варангу, в отрочестве увидев в тебе настоящего воина… Однако он не хотел тебе одной лишь ратной службы — и сам он, пусть и недолго, но любил и был любим! И у него был сын — и даже будучи на краю гибели, он наверняка ушел спокойно, зная, что спас тебя, отправив в лагерь! Но как ты использовал годы жизни, отпущенные тебе Богом, Роман? Познал ли ты любовь к женщине? Познал ли ты радость отцовства⁈
Уже порядком уставший от неприятного ему разговора Самсон молча встал — и, даже не посмотрев в сторону Твердило, двинулся на выход из таверны. Но, не пройдя и половину пути меж все еще пустующих столов, он развернулся к побратиму — и с горечью воскликнул:
— Увы, брат, но я познал любовь. Несчастную и безответную любовь к женщине, которая никогда не станет моей! И чувство это столь сильно, что я даже в мыслях не смог бы создать семью с иной девой…
Роман уже ушел, спеша заступить на службу в Вукалеоне — он провел в таверне несколько больше времени, чем ожидал. А вот огорченный Твердило решил, что Георгий Палеолог проживет сегодня без начальника охраны… Заказав сладкого, неразбавленного вина, русич вернулся за стол, где только что сидел с побратимом — коего в душе почитал если не за сына, то точно за племянника! После чего прошептал едва слышно:
— Выходит, это правда, и слухи не врут? Неужели… она⁈
Глава 4
Очередной день службы манглабита пролетел незаметно, насыщенный делами и заботами — утренней сменой стражи и последующей проверке бдительности постов, а также в подготовке дворцовых казарм к переселению в них славянской сотни. Ведь большинство русичей из варанги предпочитают жить вне казарм, многие из них завели семьи в городе; кроме того, охраной Вукалеона ранее ведали кувикуларии и виглы — ночная стража. Однако с постройкой Влахернского дворца гвардейцы этих тагм были переведены в новую резиденцию базилевса. Тем более, что за ними остался закреплен и огромный комплекс «Большого дворца», расположенного рядом со Святой Софией… Там варанги и этериоты «старых» гвардейских тагм несут службу вместе.
Только после вечерней проверки постов стражи Роман выдохнул чуть свободнее. Да, впереди его ожидает бессонная ночь и еще несколько дежурных обходов, однако иные заботы можно смело позабыть до следующего дня… Предоставленный на время самому себе, манглабит спустился к дворцовому причалу — и с легким вздохом сел на ступени подле искусно вырезанные мраморных статуй, изображающий быкольвов. Собственно, от них и пошло название дворца — Вукалеон… Ступени, ведущие с причала, уходят в самое море. Самсон не раз задавался вопросом, где именно они обрываются — или же мастера греки каким-то чудом сумели довести их до самого дна малой гавани? Во время ночной стражи Роман нередко спускался к причалу, чтобы умыться студеной в декабре морской водой — а дурачась, он пару раз делал несколько шагов вниз, погружаясь в море по колено. Но и только — снять с себя броню во время службы не представляется возможным. А упади гвардеец в воду в чешуйчатом панцире локика сквамата, мгновенно потянувшим бы его на дно, так сотник и вовсе утонул бы!
Еще Роман очень любил полюбоваться закатам на море в ясную погоду — когда багровый, цвета императорского порфира диск солнца касается морской глади, чтобы всего несколько мгновений спустя скрыться от глаз людских… Впрочем, сегодня к вечеру солнце скрыли облака — а к закату они сменились черными свинцовыми тучами, нависшими над самой головой… И несущими, как видно, заряд снега. Но было и еще одно зрелище, любимое Самсоном — а именно тот миг, когда на ближнем к дворцу маяке, высящемся в паре сотен шагов от Вукалеона, огромной свечой вспыхивает пламя!
Удивительно, но оно никогда не пугало Романа, никогда не напоминало ему о пожаре под Диррахиумом…
Вот и сейчас манглабит замер, ожидая появления первых языков огня на вершине маяка. Но едва слышный шорох над головой и справа гвардейца насторожили сотника, заставив того мгновенно собраться и изготовиться к бою. Это ведь Восточный Рим — и даже убийства базилевсов в их собственных покоях не являются чем-то из ряда вон выходящим! Но когда Роман обратил свой взгляд на источник звука, то успел заметить лишь край пурпурных одежд в окошке выступающего к морю балкона. Как кажется, их носитель не захотел разделить с Самсоном созерцания вспышки пламени на маяке…
Сердце манглабита невольно начало биться чаще, разгоняя по жилам кровь — ведь ныне только одному человеку в Вукалеоне дозволено носить царский пурпур…
Совершенно позабыв о маяке, на вершине которого как раз расцвел диковинный цветок пламени, отражающийся от начищенных до блеска бронзовых зеркал, Роман неподвижно замер. При этом манглабит бессильно сжимал и разжимал кулаки, не отрывая свой взгляд от балкона… В груди Самсона все словно замерло от пришедших на ум дерзких мыслей о признании — а конечности стали ватными, непослушными… Русич хотел сделать шаг ко входу во дворец — и не смог, буквально слыша, как тяжело забилось в груди его сердце…
Сердце влюбленного мужчины, не решающегося признаться в своих чувствах просто потому, что с той необыкновенной женщиной, ставшей причиной его душевных терзаний, манглабита разделяет огромная пропасть… Кто он — а кто она⁈ Всего лишь сотник варанги на службе базилевса, не властный над собой и своей судьбой. Сегодня Роман в столице — а завтра вновь отправят в Вифинию или в Эпир, или отбивать Родос у сарацин…
А она? А она — Мария Аланская!
…Роман впервые увидел супругу императора Михаила Дука, когда ему исполнилось всего восемь лет — а красавице царевне, венчающейся с мужем на царство, уже восемнадцать. Сидящий на могучих отцовских плечах мальчик разинул рот от восхищения, завидев в соборе Святой Софии высокую и стройную, как кипарис девушку с рыжими, вьющимися волосами, убранными под золотую стемму… Кожа горянки — дочери грузинского царя Баграта и аланской царевны Борены — оказалась белоснежной, как девственный снег на горных пиках! А правильные черты лица ее дышали каким-то необычайным внутренним благородством… И согревающим душу теплом.