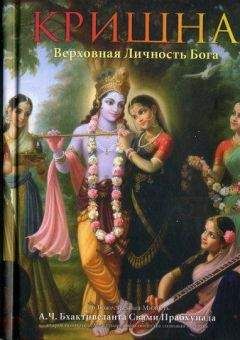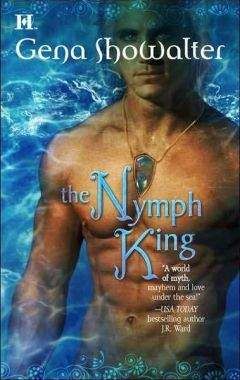Лека крутанула ручку, стекло дверцы ее поползло вниз, и палец прыгнул прямо ей в лицо. Лека завопила так, что, наверное, вздрогнули все водители машин в радиусе двухсот метров. Она схватила палец, извивающийся в конвульсиях, держала перед собой, как ядовитого скорпиона, и орала.
– Л-лека... – прохрипел Демид. – Заткнись... Наматывай на этот палец нити, которые из него идут... Крути его. Как веретено...
– Я не вижу никаких нитей! Я не могу больше!!! Он дергается!
– Есть нити... – Демид закрыл глаза, хватал воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег, колени его уже были залиты кровью. – Наматывай...
Видимо, Лека и вправду что-то там сзади делала, потому что Демид почувствовал, что нити тянутся из него, сопротивляются, но выходят. Это было больно. Мучительно больно. Но это была боль освобождения.
Концы последних нитей выплеснулись из руки Демида вместе с фонтанчиком крови. Боль пронзила его тело сверху донизу ледяной иглой. И отпустила.
– Все, – прошептал Демид. – Свободен. Кидай, Лека.
Лека брезгливо вытянула руку в окно и разжала пальцы. Бывшая часть тела Демида покатилась по дороге, в последний раз блеснув золотом на солнце.
– Теперь ты, Кикимора. – Демид был весь в холодном поту, руку свою раненую прижимал к груди. – Мне, наверное, за руль сесть надо. Я постараюсь справиться...
– Сиди, инвалид. Со мной промблемов не будет. – Кикимора вытянул правую руку в окно, выставил окольцованный палец вверх в неприличном жесте. Сам он смотрел вперед, не отрывался от дороги, рулил левой. А с пальцем его происходило нечто невероятное. Он начал пульсировать, волны сжатия и разбухания катились по нему, как по гусенице, ползущей по сучку. Кольцо начало медленно двигаться. Кикимора согнул палец, и перстень шлепнулся ему в ладонь.
– Опа! – сказал Кикимора и вдруг газанул, понесся вперед, лавируя между машинами. Он поравнялся с огромным грузовиком и не глядя закинул кольцо ему в кузов.
– Так-то вот, – произнес он удовлетворенно. – Такой вот баскетбол. Я – Мэджик Джонсон. Пущай теперь поохотятся, волки паскудные. Как рука-то?
– Ничего. – Кровь у Демйда уже перестала хлестать, и свежий рубец появлялся на развороченном огрызке пальца. – Слушай, Кикимора, что это ты за фокусы такие показываешь? Почему это дьявольское кольцо в тебя не проросло?
– А куда ему прорастать-то? Я ж – тело мертвое. Для шайбы этой золотой совершенно не интересное.
– Как – мертвое?..
– Не, ты гляди, чё творится-то, в натуре! – Кикимора захохотал.
Злополучный «фольксваген», отчаянно виляя между машинами, пристроился в хвост грузовику, понесся на него, в попытке догнать. «ЗИЛ» резко тормознул на перекрестке, и «фолькс» воткнулся ему между задних колес.
– Ну водилы!!! – Кикимора хлопал себя рукой по ляжкам. – А ты, Дема, молодец! Уважаю! Как это я раньше не скумекал, что они через кольцы нас достают?
Он аккуратно, даже не без некоторого изящества перестроился в правый ряд, включил поворотные огни и медленно свернул на дорожку, прячущуюся между домами.
– Меняем дислокацию, – сказал он. – Есть у меня тут логово одно. А машину спрятать придется. Слишком уж мы засветились. Палить с пистолета на шоссе – шутка ли?
* * *
Новое логово оказалось не хуже старого. Такая же двухкомнатная квартирка, обставленная убого, но с хорошим телевизором. Лека спала. Кикимора с Демидом сидели на крохотной прокопченной кухоньке. Пили водку.
– За твое здоровье, Дема! – Кикимора поднял стакан, изрядно помутневший за свою беспокойную стаканную жизнь. – Палец, правда, у тебя новый не вырастет. Ампутировал ты его начисто. Ну да это все же лучше, чем башку бы тебе ампутировали.
– Колись давай. – Дема занюхал пятьдесят грамм ржаной корочкой. Меланхолически жевал засохшую яичницу. – Колись, Кикимора, с потрохами.
– В каком смысле?
– Рассказывай. Кто ты такой? Что ты за тварь такая, что фокусы такие со своим телом показывать можешь? Самое время пришло рассказать.
– Что ж, скажу тебе... – Кикимора слегка забурел от выпитого и стал еще больше похож на старого вора. – Только удивлю я тебя сильно, Дема. Не поверишь, может, даже.
– Меня уже ничем не удивишь.
– Вот. – Кикимора полез за пазуху, достал оттуда листочек, сложенный в четыре раза, отпечатанный на ксероксе. – Это – копия, натурально. Но только правда это все. Потому что настоящий документ тоже у меня есть. В надежном месте схован.
Демид развернул здоровой левой рукой листочек. Писано было по-старороссийски, да еще вручную, гусиным пером, почерком мелким и прыгающим. Он сидел, шевелил губами и медленно читал.
«Рапорт секретарю Нижегородской Губернской Палаты суда и расправы г-ну Остафиеву Василию Павловичу.
Писано капитан-исправником Макарьевскаго уезда Трифоновым Егорием Данилычем апрели семнатцатаго 1776 года от Р.Х.
Ваше благородие! Настоящим сим сообщаю, что имел место случай зело странный близ деревни Пыряевки, вот уж год как прошел. В полуверсте от вышеуказанной деревеньки находится совершенно дремучий лес с местностью весьма болотистою. И пошла между местным населением молва, что в сием болоте завелась некая Богу противная нечисть, называемая обыкновенно крестьянами «шишиморой» или же «болотным мороком». Разсказывали, что сей дух безпокойный старался созорничать с человеком каждый раз, как токмо кто-либо проходил через болото за ягодами али по еще какой своей крестьянской надобности. И что дух сей любит надсмеяться над православным весьма зло – заманить его в чащобу непроходимую детским голосом, порою окликая даже по имени, и оставить там выпутываться самаго, в то же время хохоча вокруг самым непотребным образом и пугая добродетельнаго христианина даже до болезненнаго состояния.
Следствием же онаго было, что крестьяне совершенно перестали посещать этот лес. По разсказам опрошенных, начала тогда выше описанная нечисть подбираться ближе к деревне, и совершать поползновения на крестьянские животы – причем неважно кого – кошек ли, собак, курей, и даже крупную животную как свинья.
Тогда местный житель Федька Ананьев сын Шагаров, мельник, тридцати четырех лет от роду, бывший сызмальства христьянином богопочитающим и поведения самого благонадёжнаго, заявил сельчанам, что нечисть сею надлежит убить, потому как является она бесом водяным, от врага Божия дьявола изошедшая, и негоже добродетельным христианам стерпливать такое у себя в округе. После же чего вооруджился он осиновым дрыном и святой воды взяв, отправился на болото сражаться с сею образиной, хотя Батюшка пырьевскаго прихода был сильно против такого похода и даже называл Федьку самоуправцем.
Однако два крестьянина, бывшие тогда с Федькой Шагаровым, а именно Яшка Накузин и Исай Сергеев Поленов, кузнец, утверждают нижеследующее. Что когда Федька пришедши на болото оное, то стал выкрикивать всякие наговоры против чертей и всяких зловредных нечистей, которые заговоры якобы оных приманивают и нечестивой силы лишают. И оный дух, видом зело страшен, из лесу вышедши и совершенно заворожен был. А Федька его своим дрыном проткнул и святою водой набрызжил. Дух тогда этот воскричал гласом великим, и издох, и в воздухе как бы сам собою исчез. А Федька Шагаров после этого вдруг оземь упал и отдал Богу душу.
Двое эти крестьяны принесли Федьку домой. Родственники почившего сокрушались зело, однако делать нечего было, решили хоронить на третий день как положено. И понесли уже на погост. Когда же отец Аврамий, батюшка местный, над ним стал обряд свершать, оный Федька вдруг совершенно ожил, из гроба восстал аки оборотень и на того священника с кулаками набросился. И побои немалые причинил отцу Аврамию, и другим иже с ним, крича, что, мол, хотели недруги его в землю живым закопать. По причине полной необычности сего события сельчане растеряны были и полицию не вызывали, благодаря чего документа сему поттверждающаго не осталось.
За достоверность сего разсказа ручаться не могу, а только можете судить из сего, насколько в нашем народе сильно укреплены суеверия во всякаго рода оборотней и шишиморей.
Однако события, что воспоследовали за этим, смею сказать, являются прямою принадлежностью полицейскаго предмета. Ибо характер прежде богобоязненнаго Федьки Шагарова совершенно изменился. Учал он творить всякия безобразия и в церкву перестал ходить, напротив, стал богохульником совершенно неприличным. Жители же деревеньки долгое время ему прощали, говоря, что Федька избавил их от шишиморы болотной и потому как бы не в своем уме. Меж тем оный Федька Шагаров вовсе не отличался скудостью мышления, напротив, проявил себя хитростью необычайнаю и изворотливостью в деянии своих противузаконных проступков.
Сговорившись с подобными себе тремя лицами преступнаго толка, Шагаров сколотил разбойную ватагу и учал совершать налеты на лавки местных купцов, а скоро и добродетельный обыватели села Лыскова, что на другом берегу Волги, такоже стали страдать от его злостных деяний. При этом Федька совершенно не знал никакой доброты и совести и действовал самым жестоким образом, при этом надсмехаясь и над полицией, говоря, что полиция у нас на печи лежит и пятки себе чешет. Три дни назад, апрели четырнатцатаго, ворвался он со своими людишками конно и оружно в Лысково, и починил погром большой, и лавки ограбили крестьян Охлопкова и Евлампьева, и въехали в улицу, стреляя из своих оружий, и по дворам и хоромам стреляли ж, и убили до смерти крестьянина Тришку Баранова за то, что оный перечить им стал. При этом тако же сей Федька хвалился, что не человек он больше и что переселился в него дух шишиморы убитой, а потому ни пуле, ни сабле он более не доступен. И велел себя величать отныне Шишиморой.