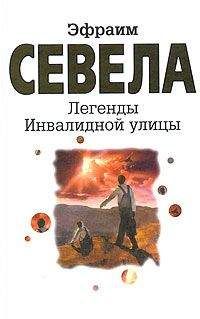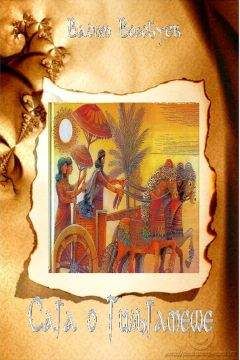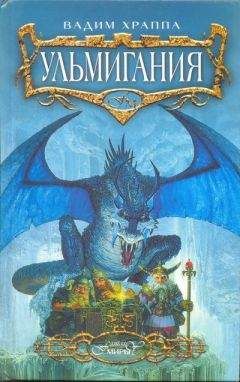– В церковь пойду. Там его и нарекут.
Супруга изумлённо уставилась на мужа. Церковь, конечно, дело хорошее, но кто ж туда за именем-то ходит? Известно: попы крестят по служебнику, лепят иноземные клички – не каждое и выговоришь. Однако муж упёрся. В церковь – и всё тут. Жена развела руками – в церковь, так в церковь. Она видела: что-то изменилось в Буслае после похода. Стал он какой-то пугливый, придавленный. Будто бремя какое легло на него или открылось нечто такое, отчего дух его сокрушился. Спрашивать опасалась, потому лишь тихо вздохнула: «Ну неси, ежели так». Курам на смех, конечно. Ну да пускай.
Окрестили ребёнка в церкви Василия Парийского, что на Черницыной улице. Назвали Васькой – в память священномученика Василия Амасийского.
– Царственное имя, – с одобрением молвил батюшка. – Даст Бог, отца превзойдёт славой своею.
– Дай Бог, – пробормотал Буслай. Он поднял ребёнка подмышки, смеясь, заглянул в его глаза. – Ну что, Васька, сын Буслаев, доволен имечком-то? Теперича за тебя не только берегини, но и сам Христос стоять будет. Спасибо отцу скажешь. – Он слегка подбросил ребёнка, и тот залился смехом, попутно обмочившись.
Обратно Буслай шёл, ухмыляясь, всё думал: «Ну вот, сделал, как ты хотел, Исусе! Гляди же! Обманешь – ни одной веверицы от меня не получишь, так и знай!». Жена и крёстные едва поспевали за ним, шумно дышали, утирали пот. Завидев идущего навстречу грека Олисея, вежливо поздоровались с ним, но тот отвернулся, будто и не заметив.
– Ишь, гордый какой! – прошипела жена, глядя иконописцу вслед. – Злится, что ты, Буслаюшка, вернулся, а его сынок – нет. Будто мы в том виноваты.
Месяц травень в тот год выдался невыносимо жарким. Горели хлеба, тонули в пыльной дымке березняки и ельники, пересыхали ручьи, даже Волхов быстро скукожился, превратился в мутную мелкую речушку. Кое-где корабелам приходилось тянуть суда верёвками, перетаскивать через мели, приставать к островкам, держась подальше от берега. А рыбакам, напротив, раздолье: кинул невод и сразу вытаскивай сети, знай только выбрасывай мелкую рыбёшку.
От Всехсвятской недели начались пожары. Первой погорела Ярышева улица. Не иначе, прогневался за что-то Господь на жителей Людина конца – не успели прийти в себя от потери кормильцев, как уж оказались без крова. Погорельцы сидели на пепелище, рвали на себе волосы, сокрушённые новой бедой. Поговаривали, будто пожар начался не где-нибудь, а прямо в Савкином тереме – самом видном из прочих домов. Вдова, молодая баба с двумя дочками, кинулась к Сбыславихе на Волосову улицу, чтобы переждать там тяжкое время. Купчиха не стала отказывать, приютила товарку, но скоро и у неё занялось, избы вспыхивали как сухой хворост, кругом стоял дым, и обе женщины перебрались в деревни. Прочие же погорельцы, из тех, что победнее, жили где придётся, скитаясь по углам. Пожары всё свирепели. Уже не только Людин конец, но вся Софийская сторона ощутила гибельную силу бедствия. Будто искры кто рассыпал по городу. Страшно было оставаться в домах – неровён час, вспыхнет ночью, не выберешься. Люди ставили шатры и шалаши в полях, жили там со всем скарбом, оставив избы на попечение слуг. Думали – раз кара Господня, пускай хоть дома спалит, а жители целы останутся. Не знали новгородцы, что всему виной не Бог, а человек, свирепый язычник, мстивший за отца своего.
Арнас добрался до Новгорода немногими днями позже остатков Ядреевой рати. Был он уже без лука, без стрел, с одним засапожным ножом: чтоб не распознали в нём лихого человека, выдавал себя за плотника, прибивался к торговым обозам и монахам, а последнюю часть пути – по Волхову – и вовсе проделал в карельской ладье с кудесниками да скоморохами. В городе недолго мыкался – быстро сошёлся с татями, промышлявшими ночным разбоем, и те дали ему приют и корм. От татей же Арнас узнал, где живёт Буслай со товарищи. Хотел сразу спалить дом ушкуйного вожака вместе с обитателями, да передумал: если просто сжечь, ушкуйник ведь не поймёт, за что постигла его расплата. Какое ж удовольствие от мести? Насладиться ею надо, заглянуть в глаза врага и сказать ему: «Помнишь ли зырянского пама, коего убил немилосердно?». И кол ему вогнать в грудь, как вогнал он его отцу Арнаса. Только так.
А пока суть да дело, зырянин решил расквитаться с остальными. Первым сжёг усадьбу изменника Савки и избы его соседей по Ярышевой улице. Потом вознамерился спалить терем Якова Прокшинича, да дружки-злодеи отговорили, на дело увлекли. Пришлось отложить месть на два месяца – пока сбывали украденное добро да хоронились в лесах от княжьих и боярских кощеев. Когда вернулись в город, лето преломилось, пошло к закату. Улицы обезлюдели, непрекращавшиеся пожары выгнали жителей в поля. Раздолье для лиходеев! У обрадованных разбойников аж глаза разбежались. Зырянин, однако, и тут нашёл свою выгоду. Сказал: раз такое дело, давайте, братцы, обчистим усадьбы Людина конца, всё равно тамошние мужики в Югре полегли, некому будет защитить дома. На том и сошлись. Для налёта выбрали терем мастера Олисея, что стоял на перекрестье Пробойной и Черницыной улиц, близ сгоревшей в ту же весну церкви Василия Парийского.
– У него чай и смердов нынче немного, – рассуждали налётчики. – Всех с женой в село отправил, а в доме, небось, только повар да конюх. Легко возьмём!
Какое там! В усадьбе засовы прочные, замки железные, окошки слюдяные, зарешёченные. Подступишься к таким хоромам, подкрадёшься, и уйдёшь несолоно хлебавши – крепок орешек, не разгрызть!
– У него ить там не только гривны да узорочье, а ещё и оклады серебряные! – щёлкали зубами разбойники точно волки голодные. – Такой терем обнести – до конца жизни печали можно не знать.
Арнас и тут нашёл выход.
– Окрестные избы поджечь – сам выйдет.
Тут даже дружков-лиходеев за живое взяло.
– Как же это? – изумились они. – Невинные души губить? А ежели там бабы да дети малые? Не возьмём грех на душу.
– Избы уже пустые, все от огня сбежать, – возразил пермяк, коверкая славянскую речь.
– Всё равно, не по Божески это…
– Я поджечь. За мной – Нум-Торум, оборонить от ваш Бог.
Сказано – сделано. Как стемнело, взял Арнас пук сена, пошёл на Пробойную улицу, привязал сено к палке, подпалил да и швырнул на крышу ближней к Олисеевому двору избы, не разбирая, есть в этой избе люди или нет. Жадно вцепился огонь в бересту на кровле, растёкся по скату, вскарабкался на конёк и ликующе загудел под ночным небом. Раздался где-то вдалеке испуганный возглас, залаяли псы в округе. Арнас, довольный, скрылся во тьме, стал ждать, пока охватит огонь хоромы гречина, а там, кто знает, и за остальные дома примется. На добро Олисеево ему было плевать, не за тем явился он сюда, чтоб людей по миру пускать, а чтоб убить их, оставить детей без родителей, а жён – без мужей. Разбойники же, не ведая того, набросились на пермяка с укоризнами:
– Зачем так близко дом подпалил? А ежели хоромы тоже займутся? Что делать станем?
Ничего не ответил им зырянин, отмахнулся только. А к избе уже валил народ: кто с ведром, кто с топором, кто так просто, поглазеть да посочувствовать. Жильцы на глаза не показывались – то ли спали, то ли уж задохнулись в дыму. Прибывшие начали ломать калитку, полезли через тын – спасать погорельцев. Скоро и гречин явился: выбежал из хором, схватился за голову, закричал что-то своим челядинам через плечо. Протрусил к пылавшей избе и встал, будто окаменел враз.
– Пора, – сказал разбойный вожак.
Словно мыши полевые метнулись тати к усадьбе. Распахнули калитку, заскочили на двор. Оглушили двух смердов, попавшихся по дороге, втащили их в дом, принялись разжигать лучины – тьма была хоть глаз выколи. А как разожгли, так и обомлели: на выложенном плинфой полу (богат был гречин, что и говорить!) стояли пузатые глиняные сосуды с ручками, высотой в два локтя, расписные да блестящие, и было этих сосудов видимо-невидимо. А меж ними торчали бутыли из тёмного стекла, бочки с фигурными ковшами, медные кубки. Валялось два кожаных мячика да несколько кубарей – потеха для детворы. Со стены, увешанной сетью, проглядывали громовые стрелы в железной оправе. Угол забит обувью: поршнями, сапогами, мягкими туфлями. Эх, раззудись плечо, размахнись рука! Сколько ж добра у гречина запрятано – не вынесешь. А в кладовке-то небось гривны с аксамитами лежат, своего часа ждут.
Табуном ополоумевших лошадей ворвались налётчики в горницу, рассыпались по комнатам, стали переворачивать всё вверх дном, ища поживу. На миг забыли они о бушующем снаружи пожаре, о хозяине, о смердах его и соседях; всё им затмила неслыханная добыча. Даже Арнас – и тот дрогнул, увидав такое роскошество. Сунул в карман перстень, замеченный на столе, прошёлся по каморкам, открыл дверь в другую комнату и сморщился от странного запаха. Свет лучины выхватил из тьмы столы с лежащими на них дощечками, кисточками, кусочками янтаря да свинцовыми пластинками. Осторожно двинулся пермяк меж столов, то и дело задевая за горшки большие и малые, которыми уставлен был пол.