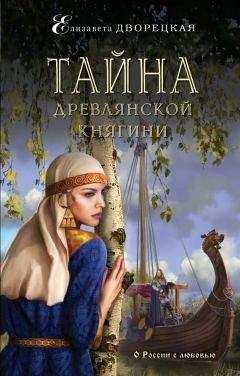Вносили лари с приданым, женщины принимались раздавать рубахи, шапки, пояса – сперва жениху, потом шестерым варягам, как единственным здесь настоящим представителям женихова дома, потом Коньшичам, нежданно для себя попавшим «в родню» к заморскому князю, всем присутствующим по старшинству. Рерик все еще улыбался, но уже опирался спиной о стену, и по нему было видно, что сильней всего ему сейчас хочется прилечь – причем в одиночестве.
«То дары везу к твоему батюшке –
То дары – сто локот сукна!» –
«Что дары везешь молодому князю?» –
«То дары везу – самое себя!»
Невесту посадили рядом с Рериком, и он осторожно взял ее за руку, пытаясь улыбаться, но это была уже совсем неживая улыбка. И Унемила, опытная и одаренная от богов лекарка, по одному прикосновению его руки поняла – ее жених недалек от того, чтобы рухнуть со скамьи прямо на расстеленную медведину, в которой запутались зерна пшеницы и шишечки хмеля.
Ее дед тоже понимал, что раненому и немолодому жениху все свадебное буйство вынести не по силам. Поэтому, после самых важных соединительных обрядов, Рерика подняли и под руки увели в другую избу отдыхать, а на его место сел Гудрёд – и свадебный пир продолжился. Только невеста ничего не ела и молчала; Гудрёд диковато косился на нее и тоже сидел, будто идол, сложив руки на коленях. Он побаивался невесты своего вождя, которую считал колдуньей. Но надо так надо, ничего не поделаешь! И славянские, и северные обычаи позволяли заменить жениха на свадьбе кому-то из его близких, а ближе Гудрёда у Хрёрека конунга никого больше не было – не только на Ильмерь-озере, но и вообще на свете.
Когда все положенные песни были спеты, женщины подняли невесту из-за стола и повели в овин. В начале лета, когда жатва еще впереди, со всего Словенска собирали и связывали в пучки старую солому, чтобы хотя бы изобразить снопы, на которых молодым положено стелить постель. Обычно же свадьба празднуется осенью, когда свезенные в овин новые снопы знаменуют собой изобильный урожай и таким образом заклинают плодовитость новой семьи. Тут с Унемилы сняли покрывало, три рубахи, толстую свадебную поневу, уложили на постель, устроенную на соломенной горе из богато расшитых настилальников, подушек и куньего одеяла – ее приданого, еще некоторое время попели и наконец удалились, оставив ей небольшой зажженный светильник с плавающим в льняном масле фитильком. А молодая княгиня осталась ожидать жениха.
Полежав с чинным видом, пока не закрылась дверь, она вслед за тем немедленно приподнялась и прислушалась.
– Где ты там, шишок овинный? – сипло и вполголоса позвала Унемила, совершенно охрипшая от предсвадебных причитаний, как это обычно бывает. – Живой?
– Здесь я.
Солома под ней зашевелилась, и оттуда вылез Воята, прикрытый сверху вывернутым кожухом с волчьим хвостом сзади. Он явился в Коньшин в толпе ряженых, занятых поисками похищенной овечки: кто их считал, кто заглядывал под личины? Эта же простая уловка помогла ему не только попасть сюда, но и принести с собой боевой топор на длинной рукояти, ни у кого не вызывая подозрений. И никто в суете не приметил, что один из ряженых, искавших «ярушку» в овине, так и не вышел оттуда.
Отбросив личину и кожух, Воята наскоро отряхнулся от соломы, чтобы не щекоталась, потянулся – все-таки полдня пролежал под душными грудами, лишь изредка осторожно ворочаясь, чтобы не потревожить заранее приготовленную брачную постель, – и встал возле двери так, чтобы оказаться за спиной у того, кто войдет.
Унемила больше ничего не говорила: они все обсудили вчера ночью у клетей. В одной рубашке, с распущенными волосами, которые завтра ей должны по обычаю заплести уже не в одну, а в две косы, она сейчас напоминала даже не русалку, а навку: ее лицо осунулось и выражало непривычную суровость, глаза при огоньке светильника блестели лихорадочной тревогой.
Вот она предостерегающе подняла руку. Из многоголосого шума и гула – во дворе пели на десятки разных голосов, колотили о железо, плясали с топотом и присвистом, просто орали от пьяной удали – выделилась песня, с которой жениха провожают к брачному ложу.
Да перина-то пуховая, да эх!
– выводили усталые и охрипшие женские голоса, напрасно пытаясь изобразить разудалую лихость.
На перине-то простыня, да эх!
Простыня-то шелковая, да эх!
Поющие подошли к двери овина вплотную, и Унемила снова легла, сложив руки на животе и глядя в темную кровлю. Дверь отворилась, и шум со двора на несколько мгновений стал оглушительно громким; кто-то вошел, дверь закрылась, и темная мужская фигура шагнула от дверного проема к ложу на поддельных снопах.
Воята неслышно сделал шаг вдогонку вошедшему и обрушил обух топора на затылок вошедшего. Голова нужна была целая, а не проломленная, поэтому он хотел пока лишь оглушить жертву. Вошедший без звука рухнул на земляной пол – но даже если бы он и успел охнуть, снаружи, за пением и шумом, никто бы ничего не услышал. Унемила отбросила одеяло и метнулась вперед; Воята оказался возле упавшего одновременно с ней, и они нетерпеливо в четыре руки его перевернули.
Унемила ахнула, Воята гневно выбранился, не стесняясь присутствия Огнедевы, поминая не только йотунову мать, но и разнообразные способы, которыми она производит на свет свое мерзкое потомство. Перед ними лежал Гудрёд.
– Ах ты сморчок нестоячий! – Унемила села прямо на пол, сжала кулаки, лицо ее исказилось, будто она сейчас заплачет.
Она имела в виду любезного мужа. Как видно, краткий отдых после застолья не помог, и Рерик не нашел сил, чтобы пойти к молодой жене и исполнить супружеский долг. А может, опасался, что это усилие его погубит. Вместо себя он прислал Гудрёда: ведь без соединения молодых на брачном ложе свадьба не будет считаться состоявшейся, вся эта суета пропадет даром. Этого Вышеня не мог допустить, а в том, что жениха заменит «почестный брат», ни беды, ни нечестья нет. Во многих родах, наоборот, считается почетным, если невесту принимает в число жен и матерей рода отец жениха или иной старейшина. И если долг Рерика исполнит его хирдман, назначенный на этот вечер «братом», – это гораздо меньшая беда, чем если невеста останется девственной. А в том, что Огнедева прежде не знала мужчин, никто в Словенске не сомневался.
Последний случай застать Рерика без дружины был потерян. Воята с невыразимой досадой посмотрел на бесчувственного Гудрёда и бросил топор наземь: эта голова Хельги не нужна и Ладоге не поможет. Для Ладоги, в отличие от молодой жены, Хрёрека сына Харальда не заменил бы сейчас и сам Дажьбог.
Унемила сидела на ложе, закрыв лицо руками и горестно покачиваясь. Ее отвага и решимость пропали даром, ей уже не избавиться от навязанного силой старого мужа. Воята подошел, сел рядом, обнял ее. Сказать было нечего: никакие слова тут не помогут и горя ее не утешат. Стараясь хотя бы выразить свое сочувствие, он поцеловал ее сперва в пробор, потом в лоб, потом в щеку; Унемила не возражала, а сама обняла его и запустила пальцы ему в волосы на затылке, ища утешения в теплых объятиях того единственного человека, кто оставался ее другом и союзником до конца.
– Бедная ты моя… – шептал Воята, покрывая торопливыми поцелуями ее лицо. – Горькая моя… милая моя… желанная…
Не встречая возражений, он быстро нашел ее пересохшие губы и впился в них с нетерпеливой страстью, которую так долго в себе копил. И Унемила ответила на его поцелуй с такой готовностью, какой он за пять лет попыток ни разу не встречал. Теперь она была уже не против, наоборот, ей незачем стало сдерживать свои чувства, которые столько лет находились под запретом. И впервые ощущая, что она готова пойти ему навстречу, Воята мигом забыл, где они находятся и зачем он сюда попал. Подхватив девушку на руки, он уложил ее на брачную постель, приготовленную для Рерика, и в нетерпении запустил руку под подол свадебной рубахи. Во время разных летних и зимних игрищ, на которых он порой встречался с Унемилой, выше колена ему никогда еще продвинуться не удавалось, но теперь его ладонь беспрепятственно проникла до бедра, и Унемила даже приподнялась, чтобы помочь ему откинуть подол. Одновременно с тем ее руки проворно скользнули под его рубаху, и он рывком развязал узел гашника, чтобы стряхнуть порты.
Ой вечор она, ой вечор она
Во пиру была, во пиру была,
Ой поутру она, поутру она
Сына родила, сына родила…
– пели во дворе перед овином утомленные женщины, успешно заглушив короткий болезненный стон внутри.
– Правду сказала, – шепнул Воята, переведя дух. – Меня дождалась…
– А тебе меня уж не дождаться, – отозвалась Унемила, одергивая подол и вытирая им между бедер.