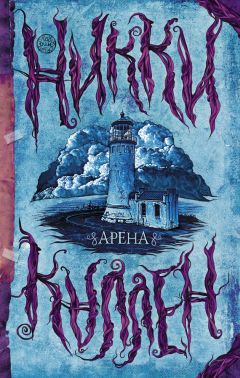У Снега волосы зашевелились на затылке; он оглянулся на огонь в камине — но тот горел ровно; Снег вздохнул, поставил еще чаю — сверкающий треугольный чайник, писк дизайна, на одну из восьми больших конфорок, дал Максу свои рукописи. Макс ушел в чтение. Снег знал каждую вещь наизусть, но когда Макс спрашивал: «как тут? ага, сейчас пойму» — и двигал в такт серебряной длинной ложкой для меда, словно палочкой дирижерской, Снег нервно подпрыгивал и кричал: «что, что, где непонятно?»
— А пойдем, ты сыграешь в библиотеке вот это, — вещь называлась «Быть»; они взяли горячий чай в чашках, канделябр и пошли через анфилады темных комнат, полных золотых и бордовых кресел, зеркал, хрусталя, меди, гипса и фарфора; Лувр, Эрмитаж, Прадо; каждый шаг отзывался звоном, вздохом; в библиотеке Макс включил свет — одну из зеленых с позолоченной ножкой ламп, задул свечи, Снег вздохнул с облегчением, сел за рояль, ему показалось — встал за штурвал корабля, трансатлантического лайнера.
Я люблю Маклахлана и Яна Тирсена, он пишет саундтреки, я тоже хочу; я писал музыку к рассказам Маклахлана, представляя, что они — уже фильм; «Быть» — это для «По ту сторону полей»: лицо Нормана, его глаза, руки, губы, как он думает об Ализе, девочке, на которой женится, месит тесто, слушает тишину в доме, как ты — щелк, треск мебели; только дом не такой большой, и тишина такая светлая, прозрачная, тишина комнат, по которым скользит солнечный свет, тишина комнат, в окна которых видно все небо — как смотреть вниз, в море, с корабля и видеть Трэвиса, знаешь историю о Трэвисе? Это властелин моря, — Макс сел на ковер, а Снег играл, руки у него двигались невероятно быстро, удар был как в уличном боксе — точный и кровавый, у Макса вспотели ладони от стремительности музыки, от того, как она печальна; рояль звучал глубоко, словно вкладывал в историю свой смысл; потом Снег спросил: «ну как?» Макс сказал, что невероятно, просто… просто… супер… он не мог подобрать ничего изысканного в ответ, мастерство Снега поразило его, как гололед посреди проезжей части. — Я бы написал к твоим рассказам музыку. Ничего? Слушай, — он собрал клавиши в такую легкую фантастическую гармонию, что ее сразу можно было напеть, насвистеть в душе, изумляясь красоте, как «Yesterday», — это летит бриллиантовый снег на волосы и губы Дэнми, он кружится под этим снегом, — он сыграл еще раз, и еще раз, и повторил уже нежнее, потом выше и резче, а потом перебежал на совсем другое, отчаянное, прекрасное, тихое, нарастающее, как боль от утраты, — что это? Лора ищет Даймонда в лугах? у тебя тоже так? лучше чем любовь? Вот почему ты ничего не боишься: у тебя всегда за спиной твои рассказы; и я ничего не боюсь: у меня за спиной моя музыка; это как Древний Рим — легионеры, сонмы ангелов, огромная сила, — он продолжил дальше подбирать клавиши, как дизайнер цвета — обои, диван, занавески, а Макс подумал: да, лучше этого только любовь; и не заметил, не почувствовал, как бабушка стоит на лестнице — лестница из библиотеки вела в ее гостиную; он забыл об этом, о том, что бабушка может спать и проснуться, так ему хотелось услышать, увидеть «Быть» Снега Рафаэля вживую, поспать, как ткань на новый костюм. А Евгения проснулась на звуки музыки, подумала: продолжение сна, а потом — молодые голоса, один незнакомый; встала, надела любимые, вышитые бисером шлепанцы, белый полупрозрачный пеньюар, не одежда, туман, быть незамеченной, очередное семейное привидение; вышла на край балкона, увидела их, пережила в душе последний день Помпеи; а потом слушала эту странную, печальную, сильную, как крепость, как метель, музыку и улыбалась, как улыбаются интриганы за спиной фаворитки: друг Макса — проклятие ли, подарок, но знамение свыше.
— Ты боишься смерти?
Они уже три недели живут вместе, в замке, сидят вместе за партой, люди уже привыкли, что они не разлей вода, даже в туалет ходят вместе, один сидит в кабинке, другой за дверью говорит, столько всего нужно обсудить.
— Я же тебе говорил, что нет.
— Потому что смерть — это Бог?
— Да.
— А почему смерть — это Бог?
— Я же Его увижу. Это сказочно, это самое главное в жизни христианина — умереть и увидеть Бога, наконец-то узнать, что это — истина.
— А я боюсь.
— В Бога не веруешь потому что.
— Нет. Просто не могу представить — как это: меня нет. Брр, ужасно. Никогда не прочту кучи книг — Цицерона, Марка Аврелия, Эко, Тойнби, Канта, Челлини, всего Фрейда; не выучу древнееврейский, древнегреческий, не увижу странных стран — Мавритании, Междуречья. Новой Зеландии…
— В космос не слетаешь…
— Вот-вот.
— Ну ведь когда-то тебя не было — когда ты еще не родился, и ты этого не чувствовал.
— Да, но, когда я буду умирать, я буду очень сожалеть. Хочу быть бессмертным.
— А ты знаешь уже, как умрешь?
— Нет, ты чего, я же не ясновидящий.
— А я уже придумал, как я умру.
— Выпьешь цикуты?
— Нет, нет, не перебивай. Значит, так, я стану знаменитым писателем, очень-очень знаменитым, не просто там, в своих писательских-читательских кругах, а как рок-музыканты знамениты, голливудские актеры — всем, бессмысленно; никто не ожидал, что молодой писатель может быть так популярен; кумир, звезда, всякие там постеры, пресс-конференции, фотосессии, календарики, школьные тетрадки с изображением; и я буду идти по Лондону в чуть пасмурное раннее утро, нести в сумке подарок своим друзьям — не знаю что, может, редкую пластинку, и среди друзей еще будет девушка, влюбленная в меня; они ждут меня в одной студии — они как раз музыканты, очень хорошие; и в здание студии будет вести такая длинная белая широкая лестница, прямо древнеримская, в Сенат; я начну подниматься по ней, считая ступеньки; и тут меня окликнут с площади — это будет площадь; я оглянусь, мне помашет рукой молодой человек, хорошенький такой, даже красивый, я подумаю: поклонник, как приятно; тоже помашу в ответ; и тут молодой человек выстрелит в меня несколько раз — шесть или даже восемь, сколько там современное оружие позволяет; и я буду медленно и красиво умирать на этой белой огромной лестнице…
— Офигеть. Ты давно это придумал?
— Да, — серьезно отвечает Макс, а у Снега губы дергаются, будто ему щекотно, легко так, от пылинки, и он пытается ее пока вежливо, дыханием, дуновением согнать, — лет в тринадцать, перед сном, я все придумываю перед сном. Про себя — в каких-то мечтах я принц, у меня несколько стран, я выигрываю и проигрываю войны, знаю по именам почти всех придворных, комнаты во дворце, свои наряды; у меня уже двое детей; а есть жизнь третьего меня — не принца, не писателя, а рыцаря Розы — орден с резиденцией на южном острове с синим морем, мир уже знает водородные бомбы, вооружается, разоружается, а мы все еще обязаны носить всегда с собой меч…
— Макс, ты фантазер. Интересно, а что делать мне, когда ты умрешь на лестнице? Плакать вместе с твоей девушкой, я же буду там, в студии, я композитор?
— Искать убийцу. Твоя вторая жизнь — Холмс, Дюпен, Фандорин.
— А, ну да.
…Снег уже наизусть знает замок Дюран де Моранжа: теперь он кажется ему маленьким, словно одна комната, — которую сам обставлял, написал в ней двадцать повестей и одиннадцать опер, всю обклеил кумирами, потом лишился девственности с любимой — самой любимой, для которой не жалко девственности; по ночам они брали по лампе или канделябру — Снегу нравилась больше лампа, большая, железная, с красными стеклами, открывалась дверца, вставлялась туда небольшая и толстая свеча, — у Макса на кухне был целый склад разнообразнейших свечей, как пуль и патронов; «я же Робинзон, — говорил он, пожимая плечами, — замок — это мой остров»; и мир преображался: становился красным, рубиновым, вишневым, малиновым, клубничным со сливками цвета бордо, винограда, свернувшейся крови, багрянца, брусники, красного дерева, махровой розы, переспелых яблок, рубина, граната; волшебник Рубинового города; и они шли гулять по лестницам, галереям, залам, балконам; днем, в выходные, прибирались в комнатах потихонечку; счастье — подумал Макс, вспомнил Макс. Ездили на мессу вместе; Снег, правда, крутился на лавке, лавки были старыми, скрипели, кто-то пристально смотрел на Снега, Макс думал: из-за того что тот вертится — и наступал ему пребольно на ногу, а на самом деле — потому что Снег был похож на человека, которого Макс не знал, а люди вспомнили; а Снег никак не понимал, как повторение одних и тех же слов может быть религией, — и это все? и этого достаточно? «Нет, нужно еще быть добрым, не убивать, не красть, не предавать, господи, ну просто быть хорошим человеком, что ты заставляешь меня говорить глупости, — отвечал Макс, — мне просто нравится ходить в церковь, как кому-то нравится ходить в оперу или на ирландские танцы, католицизм — мое хобби»; «ясно», — отвечал Снег. Ему было даже жаль, что он не верит в Бога, он иногда завидовал Максу — насколько упорядоченная у того жизнь, как в монастыре, как у легионеров; а Макс не завидовал Снегу, он полюбил его музыку и мечтал вместе покорить мир. «Арбайтен, арбайтен, иначе не прославимся», — повторял, и они вечно чем-то были заняты: то читали, то писали, то обменивались мнениями, то разгребали снег в саду — приближалось Рождество, и снега навалило неожиданно много, годовой уровень осадков; «это из-за твоей сказки», — говорил Снег, Максу становилось приятно, будто цитату из него написали на стене лифта; то готовили какие-то сказочности — бананово-шоколадный торт с глазурью или черничный флан; и, конечно же, Макс познакомил Снега с бабушкой. Снег подумал: красивая, и она то же подумала про него — прочитали мысли друг друга, словно заглянули в одно зеркало в разные времена; красивые люди, так же как и умные, особая каста, иные, произошли от инопланетян, а не от обезьяны. Она похвалила их торт, съела аж целых три куска, они прикончили остальные; и просидели у нее до позднего вечера; за окном почернело, а потом засияло — пошел снег; а они разговаривали втроем, будто жили вместе лет сто — в прошлой жизни, в позапрошлой; снимали вместе квартиру по объявлениям; трое друзей — художник, танцор, математик; потом поехали в отпуск в один замок, а их там убили вампиры. Макс волновался страшно: что скажет бабушка, ведь Снег — такая неряха, голова у него немыта, хоть Макс и поставил ему в ванную дорогие шампунь и мыло; и джинсы порваны, заляпаны краской, и разговаривает он будто на иностранном в первые секунды, как все подростки: кашей, на жаргоне и междометиях; но бабушка была не просто вежлива — Макс знает, когда бабушка просто вежлива — так отстраненно, словно у нее какая важная встреча через час и она только о ней и думает: извините, что вы сказали? ах, это, ваша племянница умерла, я подумала, что-то важное; Макс знал бабушку, как своих героев, — столько лет вместе; но Снег бабушке действительно понравился, она и сама удивилась; ей с ними было легко, как на качелях в солнечный день, будущего нет, и не будет, и не надо, вот оно, настоящее, прекрасный вечер. Сказала, что он великолепно играет, она слышала такое исполнение только раз, в Вене, играл юный гений, его в Вене обожали, называли реинкарнацией Моцарта, носили на руках, потом юноша погиб в автокатастрофе, траур был невероятный, романтичный, школьницы и студентки рыдали в кинокамеры; «бабушка!» — завопил Макс, он ужасно нервничал. Снег и бабушка заметили и переглянулись, опять прочитали мысли друг друга, перешли на темы нейтральные, вроде погоды и школы, — они все-таки любили Макса. На прощание она протянула руку Снегу, хотела пожать, но он ее неожиданно элегантно поцеловал, будто они только закончили тур вальса, и сжал ее пальцы, «вы прекрасны!» — говорил его синий взгляд; «ну и друг у тебя, — пошутила она утром, когда Макс принес завтрак, — покоритель континентов и старых тетенек»; «ты не старая» и так далее; «у него бедные родители, хиппи, у них много детей, дом — не дом — бумажный домик»; «ну и что, — сказала она, — они наверняка любят друг друга творчески, в каких-нибудь цветущих лугах или под звездным небом на пляже, раз у них получаются такие чудесные дети»; «я думал, — сказал Макс, пораженный, — что для тебя это важно: статус, все такое; ты же взрослая, ты же Моранжа»; «я старая женщина, которая может позволить себе быть очарованной синими глазами друга своего внука, а синие глаза статуса не имеют, это дар Божий; Моранжа синих глаз Бог не дал — значит, что-то это значит»; Макс понял, что мир с приходом в него Снега действительно изменился — к лучшему; словно вступил на дорогу из желтого кирпича…