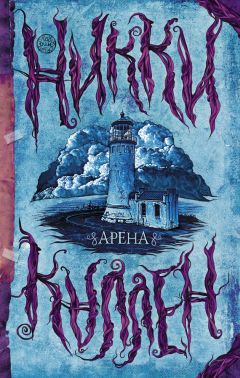Отца не было три недели; Хьюго уже совсем свыкся с новой школой, учителя оставили его в покое, узнали все его способности — средние; Август Михайлович только догадывался, что с этим мальчиком не все так просто, но решил не жать, а подождать, когда тот сам себя выдаст — вдруг пробежит стометровку за олимпийское время или щелкнет уравнение алмазной твердости, как тыквенную семечку; и с новым домом свыкся, обустроил свою комнату — заклеил все комиксами; «сплел себе кокон», — пошутила мама; по-настоящему он никогда не задумывался, чем же там занимается в поездках отец, главное, что этот бизнес не надо наследовать и можно мечтать о будущем Фрэнка Миллера; и влюбился в Магдалену Кинселлу, будто воды в бассейне нахлебался, — но еще ни разу не подошел, не поздоровался, не попросил сверить задание или посмотреть карандаши; а как? Проще спасти мир, чем познакомиться с симпатичной девчонкой, — закон жанра — история супермена. «Просто подойди» «не, мам, я умру тогда». Так и глядел на нее украдкой на уроках, точно в замочную скважину; общался только с мамой: «привет» «привет» «как все прошло?» «нормально» «ох, Хьюго, когда ты заведешь друзей?» «ну зачем — чтобы потом расстаться?» У него находились друзья в других городах, где они жили прежде; они даже переписывались, а потом кто-то не отвечал, и связь обрывалась, человек уходил в открытый космос, где никакого спасения. Хьюго не боялся людей, просто его герои для него оказывались больше людей, ближе, он сам был своим героем — сражался, летал, горел; и он просиживал вечерами в своей комнате, на полу, или в гостиной, в кресле-качалке, с пылающими щеками, захваченный, закрученный своей фантазией; и когда в один из таких вечеров зазвенел телефон, Хьюго опять порезался — точил карандаш; и так вздрогнул — сразу почувствовал, что ужасное, из его комиксов, случилось: свет погас во всей школе, учителя загнали, закрыли в кабинете. Мама была в ванной, по дому разливался запах жасмина — она всегда капала несколько капель жасминового масла в воду; пела там из Бизе; телефон не умолкал; Хьюго выцарапался из пледа, из кресла, взял наконец трубку. По руке текла кровь и капала на пол.
— Кто там? — будто звонили в дверь.
— Детектив Полански, — ответил ему приятный мужской голос, — а ты, наверное, Хьюго?
— Да, — сказал Хьюго, — только я вас не знаю, детектив.
— Я тебя знаю тоже только по фотографиям. Твоя мама дома.
— Да, но она…
— Спит уже, наверное. Я приношу свои извинения, что позвонил так поздно. А почему ты не спишь, Хьюго? Тебе ведь завтра в школу?
— Мне разрешают. Я учусь нормально. Что-то случилось с папой? — голос у Полански был по-настоящему хороший, как у положительных капитанов космических кораблей из старого детского кино, поэтому Хьюго не хамил.
— В общем, да. Я могу к вам приехать завтра утром?
— Да, только скажите сейчас, а то мне страшно.
Но детектив Полански не сказал; «тогда приезжайте пораньше, — попросил Хьюго, — скажете, пока я в школу не уйду»; «хорошо, в семь утра сойдет?» — спросил детектив; «да, да»; потом детектив положил трубку; Хьюго услышал, как у него стучат зубы, — камин совсем погас; из ванной вышла мама. «Хьюго, будешь чаю?» «мам, беда». Она ничего не разбила, не уронила, не закричала, просто пребольно стиснула ему ладонь, испачкалась в его крови и не заметила; из-под старых порезов тоже проступила кровь; они разожгли снова камин, сели в свои кресла и сидели так; мама в шесть утра переоделась из пледа и пеньюара в свитер и шерстяную узкую юбку по колено, собрала волосы в хвост, стала похожа на студентку с архитектурного; Хьюго перелез в свои узкие штаны с подтяжками и разноцветный свитер: коричневый с синим, желтым и зеленым — такая смешанная пряжа. В семь позвонили в дверь. «Не обманул», — подумал Хьюго.
Детектив был невысокий, стройный, молодой; темноволосый, темноглазый; «молодой» — не значит совсем молодой, а есть люди, которым повезло, и они застряли в каком-то возрасте, так что им теперь всегда двадцать семь лет; хоть сорок, хоть сто; мутанты, люди Икс; одет в куртку с меховым капюшоном, в хорошие темные облегающие джинсы; такие парни обычно наследные европейские принцы, покоряют Монблан и возглавляют фонд защиты прав животных. Сварили дружно кофе; «с сахаром, сливками, зефиром, виски?»; корзиночка с печеньем — бисквит, карамель, сверху молочный шоколад — у Хьюго ойкнуло: печенье было из кондитерской Кинселла; «яичницу, омлет, бутерброды?» — спросила мама, но никому не захотелось; детектив глотнул кофе и начал наконец:
— Юстас Хорнби — ваш муж, мадам Консуэло? Вы знаете, чем он занимается, в чем суть его работы?
Мама ответила про бизнес: покупают компании, что-то в них переделывают, чтобы были рентабельными, продают.
— А ты, Хьюго?
Хьюго сказал, что знает то же самое.
— Юстас Хорнби — очень известный грабитель, причем его интересуют и частные дома, и банки, и музеи. Известный и великий в своем роде. Мы очень давно охотимся за ним и его командой; действительно долго, около двадцати лет, так что я уже третий следователь по его делу; и вот вчера их поймали при попытке ограбления банка — при ограблении они убили трех челочек из охраны. Это не первые их убийства, кстати: они довольно безжалостны, убивали за свою историю и заложников, и прохожих шальной пулей…
Хьюго с мамой смотрели на него, как на внезапное солнечное затмение.
— Мам, ты знала? — спросил Хьюго, будто детектива и не было в их кухне.
— Нет, а ты?
— И я нет. Что же делать? — повернулся Хьюго к детективу.
— Просто сохранять спокойствие. Я специально приехал рассказать вам лично — чтобы посмотреть, знали вы или нет; вы не знали. Вы не виноваты ни в чем. Эта картина в гостиной — Тулуз-Лотрек; ее привез однажды Юстас?
— Нет, — сказала мама, — это моя. Я купила ее еще до замужества.
— Извините, — сказал детектив. — Профессиональное. Вам есть на что жить?
— Да, — сказала мама, — у меня есть свои деньги. Я пела в опере до замужества, и мне идут проценты с записей.
— Я знаю, — сказал Полански. — Я даже слушал ваши записи, мне понравилось, я даже, пожалуй, отличу вас от Нетребко и Каллас. Это хорошо, что вы можете жить дальше сами. Я рад, правда. Вас не тронут. Раз вы не знали, вас до суда никто не побеспокоит.
— Я ничего не скажу, — сказала мама. — Можно? Я ничего не запомнила, кто, когда и куда уезжал, правда, мы просто были счастливы.
— А ты, Хьюго? — повернулся к мальчику детектив. — Что будешь делать?
— Не знаю, — сказал тихо Хьюго. — Попытаюсь жить как обычно. Это возможно? Мне можно идти в школу?
— Иди, конечно.
Хьюго поднялся в свою комнату, посмотрел на рисунки — и руки его, порезанные, заболели, заныли, как перед затяжным дождем. Оглянулся — на пороге стоял детектив.
— Невероятные, — тот рассмотрел рисунки, закачал головой. — Просто супер. Ты можешь зарабатывать этим на жизнь. Я тоже обожал в детстве комиксы, правда, марвеловские.
— А сейчас?
— Некогда. Я даже книг не читаю, газеты только — ищу в них знаки. Этот парень похож на тебя — вот этот, с ножами вместо рук.
— Это я и есть. Его зовут как меня: Яго.
— Из Шекспира?
— Да. Коварство и любовь. Меченосец. А это его друзья: парень-резина: если ему надо выключить свет, достаточно просто протянуть руку она тянется и тянется, и из кресла вставать не надо…
— Н-да, удобно. А этот? Под ним пол расплавился…
Это его братишка — серная кислота. А это Патрик: он стальное сверкающее насекомое, у него яркие крылья, усики, глаза фасетчатые; а в жизни, в школе, он серенький такой; а это Энди — огонь.
— Такой, из японского аниме немного: глазищи, волосы красные, гребнем.
— Ну да, есть чуть-чуть.
— А в жизни, Хьюго, у тебя есть друзья? Банда, команда? Не бойся, я не подозреваю…
— Нет. Я один.
«Один», — подумал Хьюго еще раз, вошел в фойе, двинулся сдавать куртку в гардероб; вокруг было полно детей, и все они умолкли, расступились, запихали друг друга локтями. «Почему? — подумал Хьюго. — А, ну да, новости, утренние выпуски по телевизору и радио в машине: «Юстас Хорнби и его банда арестованы, они грабители и убийцы». Я сын грабителя и убийцы, зашибись». Тетенька взяла его куртку и, как показалось Хьюго, постаралась не коснуться его забинтованных рук. «Я теперь как Яго и его банда — буду идти сквозь толпу, как нос корабля». Хьюго шел, смотря себе под ноги, и тут его по радио вызвал к себе директор. «Исключат, конечно же, зачем я им?» Хьюго вошел в кабинет — он был в нем всего лишь раз, когда проводили собеседование; «понимаете, мы берем не просто детей, родители которых в состоянии заплатить за обучение, мы хотим, чтобы детям понравилось у нас учиться, чтобы это образование им действительно было нужно», — объяснил тогда директор маме смысл собеседования; в итоге они говорили об опере — директор восхищался мамой Хьюго, жалел, что она бросила петь; кабинет оказался уютным: легкая светлая мебель, складная, с подушечками на сиденьях, такой место, скорее, на даче; много разноцветных круглых и квадратных ковриков; ноутбук и фотографии на стенах — маяк посреди моря с вертолетной высоты, крыло бабочки, испанская улочка на рассвете; полстены занимает огромный аквариум. «Садись, Хьюго, — сказал директор, — поговорим. Звонил следователь, детектив Роман Полански, сказал, что вы с мамой две невинных души; и твоя мама в состоянии платить за обучение дальше, так что я не вижу никаких причин уходить тебе из нашей школы. Ты ведь собирался, вижу по твоему английскому лицу, — но никто здесь о тебе плохо не думает. Знаешь, Хьюго, твой отец… он ведь войдет в историю; ты, конечно, не гордись, это я так, профессиональное»; он был учителем истории у выпускников. Хьюго решил, что директор уже подумывает над мемуарами под названием «В моей школе учился сын Юстаса Хорнби» или собирается написать глобальный исторический очерк «100 величайших грабителей», — и засмеялся-испугался про себя. «Спасибо» «да не за что; мы предупредим учителей, чтобы они пресекали всяческие попытки тебя обидеть, оскорбить и прочая, ты сам о них нам сообщай, не таись, а сообщай, понятно?» «понятно» «и школьный психолог, если что, всегда к твоим услугам — хоть днем, хоть ночью, она сама сказала, слышишь. Хьюго?» Мальчик кивнул. Урок уже начался — у Августа Михайловича, директор дал Хьюго записку, почему тот опоздал — был у него, и Хьюго шел с ней по пустым коридорам, полным зеркал, цветов, ковров, и думал: почему пусто не может быть всегда? Потому что никто и ничто не поможет: ни директор, ни учителя, ни записки, ни психолог, — ему теперь никогда не познакомиться с Магдаленой. Постучался, вошел в класс, отдал записку, сел, стал слушать, писать, закрылся от всех руками — в лицо ударило, как снежком, заболело опять до самых костей: Магдалены не было на первой парте; она не вышла как дежурная намочить тряпку или за мелом — и на парте не лежало тетрадок, учебника, ее вечных блокнотиков, ручек, карандашей, последней Роулинг; ох, черт, ну почему в этот день ей вздумалось заболеть, как раз, когда так нужно встретиться взглядами, чтобы понять наконец: да или нет?