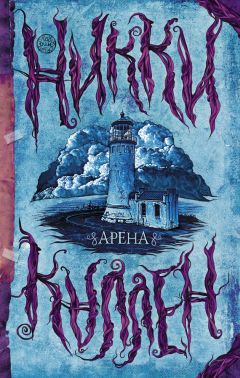— Берилл, что ты здесь делаешь?
— Я видела, — она еле дышала от бега, — я видела, как он упал.
— Мост? — спросил Эрик. — Ты была здесь? Это же очень опасно. Я попрошу закрыть территорию, — она ему очень мешала; мост упал, и это ужасно, но было так странно видеть ее здесь, среди рабочих, все в том же белом платье, в котором она поцеловала его; Эрик будто раздваивался.
— Нет, — даже воздух вдыхать больно, не то что говорить. — Джеймс.
— Спенс? — он был потрясен. — Откуда ты знаешь его?
— Он умер? Он разбился? — ему хотелось трясти ее, узнать, откуда она знает Джеймса, но она так умоляюще, с таким горем смотрела на него, что он ответил правду:
— Нет. Он упал, но он же на страховке, причем в связке со мной. Ты была здесь все это время?
Берилл замотала головой, заплакала от счастья. Если бы Джеймс умер, она бы оплакивала его всю жизнь, как брата, ушла бы в монастырь и вышивала там гобелены к Скорбным тайнам Розария. От облегчения она села на утоптанную траву и теперь только поняла, как ужасно болит одна нога; она посмотрела: порезалась на бегу, довольно зверски, об стекло, наверное; кровь текла нешуточно, толчками, от сердца. Эрик увидел кровь, позвал кого-то, попросил принести аптечку; аптечку притащил молодой человек с красными волосами, «Матье», — представился; он был веселый, тоже весь в саже, и так чудесно, по-французски произносил «р», что его хотелось поцеловать в горло; «я очень хорошо управляюсь с девчачьими ногами, доверьтесь мне, — сказал он. — У меня три сестры»; промыл и перебинтовал ей ногу; «почему вы босиком, вам нужны какие-нибудь маленькие кроссовки или балетки из мягкой кожи или бархата; у одной моей сестры есть очень смешные — расшиты будто мордочка котенка: ушки, носик, глаза, усы — все блестящее; хотите, я вам такие закажу?» Она пожала плечами и кивком поблагодарила. Матье с улыбкой смотрел на нее — ему понравилось, что она такая красивая; «чаю?» — спросил он, снял с себя куртку рабочую, надел на нее; из мягкой замши, приталенная, почти как пиджак; Матье был щеголь, любил одежду, обувь, вещи; она опять поблагодарила — глазами, кивком. Людей вокруг становилось все больше и больше; странно, подумала она, кто они, эти суровые рабочие, с руками и глазами; будто они только-только со строительства какой-нибудь большой ГЭС на горной реке; что они здесь делают, шумят, говорят, ведь на мосту были только Эрик и его ребята… потому что это магия, поняла она, Эрик — маг, такой же, как его отец, и ему не нравится, когда с его магией знаком кто-то иной, чужой… Матье протянул ей чашку с горячим-горячим чаем; «там мед, — сказал Матье; чтобы она услышала его, ему пришлось наклониться к ней совсем близко, говорить прямо в ухо, и Берилл почувствовала его теплое дыхание, пахло от него орехами и малиной, — любите мед? я просто не знаю, пьете ли вы с сахаром, вот и добавил меда, чтоб было сладко…» Берилл глотнула — будто огнем окатило; она захватала воздух ртом, точно там был перец; Матье засмеялся: «ну, там еще виски, ирландский, мягкий, это чтобы вы наверняка не заболели». Он сел рядом с ней на землю, и ей было хорошо, что он рядом, она даже пожалела, что не встретила его раньше, до Эрика и Джеймса; влюбиться в Матье было бы здорово — он так похож на маму: любил яркие цвета, вкусы, запахи; от чая ей стало тепло-тепло, и тут пришел Эрик: «что ты дал ей? чай; здорово; а мне можно?» Матье кивнул и ушел; Эрик сел на место Матье и стал смотреть на мост.
— Черт, он упал.
— Не весь.
— Не весь. Но расти он не сможет: он мертв. Тот берег заморозил его.
— Это ужасно?
— Нет. Я что-нибудь еще придумаю.
— Ты гений?
— Да, — он взял ее руку, поцеловал, — теплая, как ванна. Ты придешь завтра на ужин?
— Да.
— Скажи, откуда ты знаешь Джеймса? Меня это мучает. Я, если честно, ревную. Черт, Берилл! Откуда ты его знаешь? — он сжал ее руку, и стало ужасно больно.
— Он купил книжку в магазине месье де Мондевиля, я ему нашла ее. Мне больно. Я не смогу вышивать.
— Прости, — он отпустил ее, — Джеймс абсолютно сумасшедший. Он вечно прыгает.
— Потому что он умеет летать?
Эрик посмотрел на нее внимательно.
— Так говорят, — она пожала плечами. Молодой человек вздохнул и посмотрел на обвалившийся мост, на погасший город на том берегу. В свете прожектора его лицо казалось черно-белым, совсем фотографией — какого-нибудь прекрасного, но забытого актера из «Звездной пыли», актера, который играл прекрасных принцев, а потом уехал в Африку, жил с племенами, писал книги, рисовал углем, просто жил…
— Я познакомился с ним в Англии, на каком-то торжественном приеме; он младший сын герцога, все время смеется над этим; учился в университете, на искусствоведа, его семья владеет престижным аукционом живописи; он стоял у Шагала с бокалом джина с тоником и рассуждал; искусствовед он неплохой — внимательный и остроумный, как Оскар Уайльд; мы разговорились, пошли гулять по террасе, пили джин с тоником, и все бы здорово, обычное светское знакомство, — только он шел по перилам…
Берилл представила: ночной парк, белый мрамор.
— Высоко?
— Примерно как в уличном цирке: метров пять…
— Высоко.
— Я понял, что он даже не замечает этого. У него были потрясающие каскадерские навыки; я спросил, не работал ли он в цирке, он спросил, не предлагаю ли я ему работу, он не любит свою семью и свой образ жизни. Я пригласил его в гости, чтобы проверить, угадал ли я, и тогда, если ответ «да», взять его на работу. Мой дом… у меня странный дом. Я думал поразить тебя завтра, но придется рассказать один секрет. В одной зале стеклянный пол — из черного стекла; когда по нему идешь — кажется, что под тобой пропасть, мрак и пустота, и еще огоньки далекие светятся, будто внизу маленький городок…
— Красиво, — сказала Берилл, — у Грина в «Золотой цепи» замок, полный чудес.
— Да, — отозвался Эрик, — у меня есть эта книга. Все кричат и пугаются, а Джеймс шел спокойно, как по тропинке в лесу, наслаждаясь природой; вокруг горели свечи, и он был такой маленький, как Ганс из сказки… заколдованный мальчик… Он просто не боится высоты. Он не умеет летать. Он просто не боится высоты. Не так, как мы с тобой можем не бояться, когда лезем на дерево или на скалу, — разумом, привычкой, силой; он родился без страха, без инстинкта самосохранения, как рождаются слепыми, такая, особая форма аутизма, непонимания. Джеймс пошел ко мне работать: он делает обычно самые сложные и тонкие работы — на самом верху, проверяет прочность и устойчивость конструкций… Я его очень люблю и всегда боюсь, что однажды он упадет. Хотя он постоянно падает. Но я как мамаша…
Она засмеялась, допила чай; повернулась, чтобы отдать чашку, широкую, как бульонница, толстую, керамическую, ярко-желтую, и увидела, как напряжено лицо Эрика, словно говорить о Джеймсе ему было больно, как о бывшей возлюбленной; дотронулась до грязной щеки.
— Он падал сегодня — так красиво, на самое дно; я даже забыл, что он на страховке, думал, у меня сердце разорвется от такой красоты и отчаяния; а потом он повис, раскачиваясь там, внизу, у самой реки, и смеялся, злой мальчишка; Матье и Мервин закидали его шуточками; мост падал и падал, на него летели огромные куски железа и дерева; а он ничего не боялся, висел и радовался тому, что свободен…
Он любит его, подумала Берилл, он любит его как ребенка; он сам не знает, но любит его больше всех на свете; ей стало печально, потому что не ее, и радостно, потому что Джеймс заслуживал такой любви — пришелец, капризный, хрупкий, прекрасный, удивительный, как снег в канун Рождества… Тут пришел Матье со второй чашкой, черно-белой, с фотографией Чарли Чаплина, — для Эрика; она протянула ему желтую чашку, поблагодарила улыбкой, встала и ушла, легко, как растворилась, — сахар в горячем. Матье смотрел ей вслед, ошеломленный.
— Где ты нашел ее? — спросил он Эрика. — И когда? Отвечай немедленно, это же фантастика.
— В тумане, — ответил Эрик, глотнул из кружки и тоже захватал воздух ртом, как Берилл, не ожидая в чае виски. Матье засмеялся, он любил алкоголь. — Черт, Матье! Хотя это то, что нужно… Я шел смотреть на берег в первый раз, сразу, как приехали, и увидел ее в тумане; она была в пижаме и оранжевом пледе. Раз ты ее видел, значит, она не видение. Слава богу. Я пригласил ее на ужин завтра к нам; приготовишь что-нибудь замечательное?
— Приготовлю, — родители Матье были поварами, сейчас работали в петербургском ресторане «Жорж Ламур», в таком шикарном, что люди старались сохранить адрес его в секрете, чтобы место не стало популярным; вырос на кухне, учился читать по рецептам и прекрасно готовил; один чемодан с вещами у него всегда забронирован под посуду и специи, ликеры, сиропы, соусы, а Маленький город сразу заслужил его симпатию, потому что здесь были — и все в одном магазине — свежая зелень, хорошее оливковое масло, орехи, грибы и имбирь, и никуда не нужно было ездить, искать, доставать, выписывать. Матье уже даже придумал завтрашний ужин: роскошный, нездешний, совсем не для Берилл — она, наверное, росой питается, творожными йогуртами с персиковым джемом, — а для абстрактной девушки-брюнетки, с короткой стрижкой, оголенной шеей, изогнутой, как ножки у антикварного столика; в черном платье с пайетками; такой, роковой, из повести Рэя Чандлера, — утиные ножки с черносливом и соусом из красного вина, кресс-суп из шпината, овощной салат — перец, оливки, козий сыр и бальзамический уксус — и два вида парфе: ореховое с медом и творожное; он всегда придумывал героев для своих обедов и ужинов; как писатель; если бы небо не дало ему второй талант — знать все про металл, Матье стал бы поваром. Металл и еда были его самыми сильными дарами: он видел и то и другое, чувствовал, как срастаются или расщепляются молекулы; это как ясновидение; еще он умел рисовать, хорошо знал математику, играл на пианино; одно из его самых ярких воспоминаний детства — о том, как в пять лет он брал уроки рисования у одной очень известной молодой художницы; отец должен был заехать за ним, но что-то случилось, задержался в ресторане; и Матье просидел у девушки допоздна; он был ей не в тягость, они очень нравились друг другу, напекли шоколадных и черничных кексов, сели пить чай; тут пришла ее подруга, вся в деревянных ожерельях, в бархатном платье с этнической вышивкой, в волосы заплетены бусины и разноцветные нитки, — подруга увлекалась хиромантией, астрономией, гаданием на Таро; она взяла руку Матье, крошечную тогда лапку, и ахнула: «у этого мальчика так много талантов, как плодов в осеннем саду; и он напрямую связан с космосом; у него на ладони целое звездное небо»; в общем-то, карьера повара устраивала Матье, но в старшем классе он познакомился с Эриком; отец того постоянно переезжал, гастроли, но иногда он делал остановки в городах, где были заводы, чтобы изготовить очередную конструкцию для нового трюка; а в этот раз — из-за дяди-инженера; тот заболел, сердце, а в этом городе хороший кардиологический центр, и дядю направили сюда; вся труппа приехала за ним, а Эрика записали в очередную новую школу; он сел за парту с Матье; и они подружились — красивые, умные, амбициозные, мечтательные… «Смотри, что я умею», — сказал однажды Матье; он так доверял Эрику, что решился показать: взял ложку в руки, и она, как в «Матрице», изогнулась, заплелась; потом показал на велосипеде — порвал его, как бумагу, на части, а потом сварил, склеил словно, сшил, слепил, будто пластилиновое, будто больших усилий и не надо: «не знаю, наверное, это что-то странное, типа двиганья предметов глазами или как в комиксах есть люди-резина, люди — серная кислота»; Эрик был в восторге. Матье мог сделать сплав сильнее или слабее, мог создать самые сложные вещи, как ювелир или часовщик, один, ночью, просто руками, проникая в ткань. Так Эрик выбрал за него. Повар ему был не нужен, музыкант и художник тоже. Матье иногда думал: а не появись Эрик в его жизни… но очень редко думал — жизнь ему нравилась.