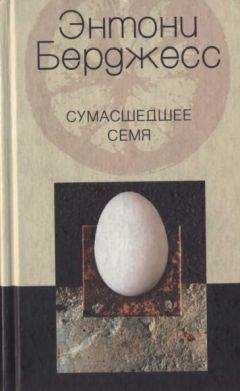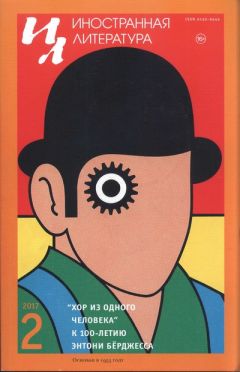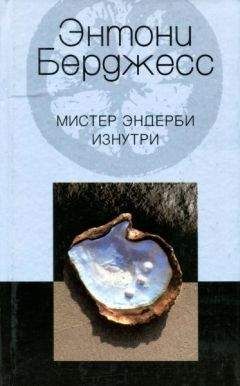Один полисмен-гомик сунул в музыкатор таннер. Неожиданно грянула танцевальная мелодия, будто лопнул мешок спелых слив, — оркестр из абстрактных записанных звуков, на глубоком фоне медленная дробь, от которой тряслись все поджилки. Один полисмен начал танцевать с бородатым штатским. Грациозно, вынужден был признать Тристрам, танец сложный и грациозный. А расстрига-священник испытывал отвращение.
— Чертовский выпендреж, — сказал он, а когда один гомик, который не танцевал, сделал музыку громче, громко, без предупреждения гаркнул: — Заткни этот чертов гвалт!
Гомики глазели с умеренным интересом, танцоры уставились на него, открыв рты, по-прежнему мягко покачиваясь в объятиях друг друга.
— Сам заткни, — сказал бармен. — Нам тут ни к чему неприятности.
— Куча извращенцев, ублюдков, — сказал священник. Тристрам восхищался священническим языком. — Грех содомский. Господь обязательно поразит всех вас насмерть.
— Вот старый зануда, — фыркнул на него один. — Ну что у тебя за манеры?
А потом за него взялась полиция. Быстро, как в балете, со смехом; совсем не то насилие, что было в прошлые времена, про которое читал Тристрам; скорее щекотка, чем избиение. Только и до пяти не досчитать, как расстрига-священник привалился к стойке бара, пытаясь вздохнуть после падения с большой высоты, с целиком окровавленным ртом.
— Ты его друг? — спросил один полицейский Тристрама. Тристрам ошеломленно заметил, что губы у него выкрашены черной помадой в тон галстуку.
— Нет, — сказал Тристрам. — Никогда его раньше не видел. Никогда в жизни его раньше не видел. В любом случае я как раз ухожу.
Он допил свой алк с оранжадом и пошел к выходу.
— И вдруг запел петух[14], — пробурчал расстриженный священник. — Сие есть кровь моя, — сказал он, утирая рот. Он слишком наклюкался, чтобы чувствовать боль.
Пока они лежали, дыша все медленнее, достигнув магическим образом синхронности колебаний грудной клетки, его рука под ее расслабленным телом, она говорила себе, что, в конце концов, может, и не задумывала, чтобы так вышло. Дереку ничего не сказала; это ее личное дело. Она себя чувствовала довольно далекой, отдельной от Дерека, как, возможно, поэт, написавший сонет, чувствует себя отдельным от начертавшего его пера. Из подсознания выплыло иностранное слово Urmutter[15], и она гадала, что оно означает.
Он первым вынырнул из парахронизма[16], лениво спросив, — мужчина, хронологическое животное:
— Который сейчас может быть час?
Она не ответила. Вместо этого сказала:
— Я не могу понять. Все это лицемерие и обман. Почему люди должны притворяться не тем, что они есть на самом деле? Все это гадкий фарс. — Она говорила резко, но еще как бы из некоего безвременья. — Ты любишь любовь, — сказала она. — Ты любишь любовь больше любого когда-либо известного мне мужчины. И все же относишься к ней как к чему-то постыдному.
Он глубоко вздохнул и сказал:
— Дихотомия, — плавно бросив ей это слово, как мяч, набитый утиным пухом. — Вспомни о человеческой дихотомии.
— И что, — зевнула она, — насчет человеческой как ее там?
— Расхождение. Противоречие. Инстинкты говорят нам одну вещь, рассудок — другую. Если мы допустим, это может превратиться в трагедию. Но лучше видеть тут комедию. Мы были правы, — эллиптически продолжал он, — отбросив Бога и поставив на его место мистера Живдога. Бог — трагическая концепция.
— Не понимаю, о чем ты толкуешь.
— Не имеет значения. — Он зевнул вслед за ней, с опозданием, продемонстрировав белоснежные пластиковые коронки. — Противоречивые требования линии и круга. Ты — сплошная линия, в этом твоя проблема.
— Я круглая. Я шаровидная. Посмотри.
— Физически — да. Психически — нет. Ты по-прежнему творение инстинкта, после стольких лет учения, лозунгов, подсознательной кинопропаганды. Ты ни во что не ставишь положение в мире, положение в государстве. А я — да.
— Зачем это мне? У меня своя жизнь, которую надо прожить.
— У тебя вообще не было б никакой жизни, которую надо прожить, не будь таких людей, как я. Государство — это каждый его гражданин. Допустим, — серьезно сказал он, — никто не беспокоится насчет рождаемости. Допустим, мы не заботимся, чтоб прямолинейное движение продолжалось, продолжалось и продолжалось. Мы буквально голодали бы. Клянусь Нюхом Дожиим, у нас почти не было бы еды. Нам удалось достичь определенного стаза благодаря моему министерству и подобным правительственным департаментам всего мира, но это не может слишком долго продолжаться, нет, при таком ходе вещей.
— Что ты имеешь в виду?
— Старая история. Преобладает либерализм, а либерализм означает распущенность. Мы все предоставили образованию и пропаганде, свободной продаже противозачаточных средств, клиникам-абортариям и утешительным. Мы любим ребячески тешиться мыслью, будто люди вполне хороши, вполне разумны, чтоб сознавать свою ответственность. Но что происходит? Вот был случай, всего несколько недель назад, с одной парой в Западной Провинции, у которой шестеро детей. Шестеро. Что ты на это скажешь! Причем все живы. Очень старомодная пара — сторонники Бога. Толкуют об исполнении Божьей воли, о всякой такой чепухе. Один наш чиновник перемолвился с ними словечком, пытался вразумить. Вообрази — восемь тел в квартирке меньше этой. Но они не образумились. У них явно есть экземпляр Библии, Нюх Дожий знает, где они ее откопали. Ты когда-нибудь ее видела?
— Нет.
— Ну, это такая старая религиозная книжка, полная всяких гадостей. Попусту тратить семя — большой грех; если Бог тебя любит, Он наполнит твой дом ребятишками. Язык тоже очень старомодный. Тем не менее они все время на нее ссылаются, твердят про плодородие, про бесплодную смоковницу, которая была проклята, и так далее. — Дерек с искренним ужасом передернулся. — Пара к тому же вполне молодая.
— Что с ними стало?
— Что могло с ними стать? Им сообщили, что существует закон, ограничивающий потомство одним новорожденным, мертвым или живым, а они говорят, этот закон порочный. Если б Бог не задумал людей плодовитыми, говорят, для чего Он вложил в них инстинкт размножения? Им сообщили, что концепция Бога вышла из моды, они с этим не согласились. Им сообщили, что у них есть обязанность перед соседями, они это признали, но так и не поняли, как ограничение семьи может быть обязанностью. Очень сложный случай.
— И с ними ничего не случилось?
— Ничего особенного. Оштрафовали. Предупредили, чтоб больше не заводили детей. Дали противозачаточные таблетки, приказали пойти в местную клинику по контролю над рождаемостью и получить инструкции. Только, похоже, они ничуть не раскаялись. И таких людей множество, по всему миру, — в Китае, в Индии, в Восточной Индии. Вот что страшно. Поэтому должны произойти перемены. От данных о численности мирового населения волосы дыбом встают. У нас лишних несколько миллионов. И все из-за доверия к людям. Обожди, увидишь, через день-другой наш паек сократится. Который час? — снова спросил он.
Вопрос был не срочный; если б он захотел, мог бы вытащить руку из-под ее расслабленного теплого тела, откинуться в дальний угол крошечной комнатки, взять наручное микрорадио с часовым циферблатом с другой стороны. Он слишком разленился, не желал шевелиться.
— Думаю, около половины шестого, — сказала Беатрис-Джоанна. — Можешь проверить по телеку, если хочешь. — Свободной рукой ему с легкостью удалось щелкнуть переключателем у изголовья кровати. На окне опустилась легкая занавеска, отсекая достаточно дневного света; приблизительно через секунду на потолке заклокотала, мягко взвыла синтетическая музыка. Не духовая, не струнная, не ударная музыка, точно так же, как та, которую в тот же самый момент слушал напивавшийся алком Тристрам. Волновые колебания, водопроводный кран, судовые сирены, гром, марширующие ноги, вокализация в горловой микрофон, — короткая неразборчивая перевернутая симфония, больше предназначенная для удовольствия, чем для волнения. Экран над их головами молочно засветился, потом на него вулканической лавой вылилось цветное стереоскопическое изображение статуи, венчавшей Правительственное Здание. Каменные глаза над барочной бородой; крепкий, режущий ветер нос; сердитый высокомерный взгляд. Облака за ней двигались как бы в спешке; небо было цвета школьных чернил.
— Вот он, — сказал Дерек, — кто бы он ни был, — наш святой покровитель. Святой Пелагий, святой Августин или святой Аноним, — кто? Сегодня вечером узнаем.
Святой образ потускнел. Потом расцвел впечатляющий храмовый интерьер — почтенный серый неф, стрельчатые арки. С алтаря маршем спускались две плотные мужские фигуры в белоснежных одеждах больничных санитаров.