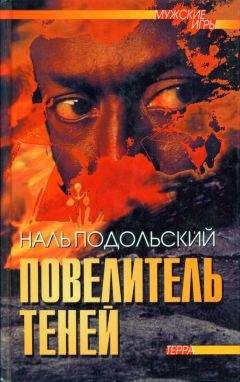Клювоносый развлекается по-другому: его фигуры сбивают в толпы подвижные точки и смешных механических насекомых и гоняют их без конца с места на место.
А меня манит зелень — и вот я на том же лугу, где под солнцем танцуют цветы и бабочки. Мы опять с ней вдвоем, я ее обнимаю за талию, ощущаю нагретую солнцем ткань и под ней гибкое тело.
Между тем кий по кругу снова приходит ко мне. Решаю: раз матрешка выделывает нечто мне непонятное, но явно недоброе — загоню-ка ее в пустыню, пусть образумится. Взглядом выбираю подходящее место и — кое-что я уже усвоил — пытаюсь вызвать в воображении эту пустыню, песок и колючки и, главное — захотеть туда.
Но — тщетно. Хочется на пологую вершину холма, и мы вдвоем постигаем одно из чудес того мира: не нужно ни идти, ни бежать, достаточно только подумать — и вот мы без всяких усилий плывем над травой вверх по склону. Внизу, жемчужно блестя, река рисует двойную излучину и светится изумруд — остров в виде подковы.
Мой ход. Осторожно кием задвигаю матрешку в пустыню. Она же, увы, повторяя мои собственные желания, вожделеет к зеленым лугам, и лесам, и к горам со снеговыми вершинами. От обиды и злости начинает крутиться на месте, приобретает шаровидную форму и клубком темных шерстяных ниток катится к центру стола, давя по пути что-то живое и оставляя на карте парные следы гусениц, как игрушечный танк или трактор. Перед тем как остановиться, клубок особенно тщательно давит бегущих мурашек и сметает деревья на реке у двойной излучины, а затем сносит остров, напоминающий сверху подкову. Устает клубок, вертится медленнее и становится снова матрешкой со скуластым плоским лицом.
Все фигуры на карте приходят в движение. Игроки же до крайности возбуждены — переглядываются, подмигивают. Клювоносый от удовольствия щелкает языком, а старуха с глазами совы даже слегка припрыгивает. Их, как видно, приводит в восторг, что король, то есть моя матрешка, оказалась у центра стола, у подножия горной страны, с плоскогорьями, покрытыми снегом, и зубчатыми ледяными вершинами. Лихорадочно, словно боясь опоздать, все гонят свои фигуры тоже к этим горам. Перекормленный мальчик не может дотянуться кием до центра, но его фигура — серый бесенок — необычайно пронырлива и, добравшись к горам раньше других, взбирается на плоскогорье.
Клювоносый ее отодвигает назад:
— Осади, не лезь вперед старших! — Он кий прислоняет к стене. — На сегодня довольно, родичи. Я вас поздравляю: мы на грани великих событий.
Застывают, стекленеют фигуры, тускнеют на карте краски, и она похожа теперь на макет из школьного кабинета.
Снова ужин, слепящий свет, и жующие в молчании челюсти, и на белизне скатерти бокалы с багровым вином.
— За успех… за успех Игры!
Я боюсь их, боюсь этого тоста, комариный голос зудит: опасно, опасно!
— Что такое: успех Игры?
Меня будто только сейчас заметили.
— Ах, король! Ах, счастливчик! Успех Игры… Это просто, так просто… Это когда в центре Мира, в белых горах, сойдутся король и четверо серых химер!
Вот так штука — четыре химеры и я…
Вижу звезды на фиолетовом небе, и луну, и желтое солнце. Снег, сухой и сыпучий, искрится лиловым, и внизу, под ногами, горы до горизонта. Здесь ни птица, ни зверь не живет, здесь смерзается даже ветер, становясь тяжелым и твердым, и каждый его порыв — как удар ледяной кувалды. Мне что, я король, я матрешка. Я деревянный и круглый, выточен на токарном станке, выкрашен масляной краской, и корона к моей голове прибита гвоздями. Вижу — лезут химеры вверх, карабкаются по склону, скользят когтями по льду и метут снег ушами. Здесь нечем дышать, здесь так пусто, что трескаются и камни, но химеры неутомимы, месят снег тонкими лапками, падают и поднимаются снова. Приближаются неотвратимо, доберутся они до меня, то-то будет им торжество, а мне ужас. Страх вползает в деревянное сердце, наполняет его — вот-вот треснет. Что случится, не знаю. Жуткое. Что — не знаю. Оттого так и страшно. А спрятаться некуда. Был бы костер — в него. Ведь легко сгореть деревянному, вспыхнуть, треснуть, рассыпаться искрами — и химеры останутся с носом. Как же быть, они совсем близко. Помогите, спасите! Вижу серые уши, красные пасти и собачьи круглые глазки. Ну сейчас я вас обману! Аккуратно ложусь на бок и качусь вниз по склону — я круглый, я сделан на токарном станке! Качусь все быстрее, и страх отпускает. Обманул, обманул, укатился! Долго буду катиться, прилечу вниз со свистом и гулом, прокачусь по селениям с треском, все разрушу, все разломаю и сам разлечусь в щепки.
Что-то мягкое меня останавливает. Рыхлый снег, не качусь дальше. Кто-то тянет меня, кто-то дергает. Осыпается снег с лица, с нарисованных плоских глаз — и от страха ссыхается деревянное сердце. Две химеры меня катят, как бочку, катят вверх по крутому склону, спотыкаются, тужатся, напрягают когтистые лапы. Я им нужен там, наверху. Что они со мной будут делать? Вязкий страх залепляет глаза. Я пытаюсь кричать — не могу: ведь мой рот нарисован. Деревянная ярость раздирает меня — задушу химер, разорву, но куда там: и руки, и пальцы мои нарисованы краской. И от ужаса мутнеют глаза, выступают из них деревянные слезы-опилки, и скриплю по сыпучему снегу крашеным боком.
Отрываю с усилием нарисованную руку от тела, протираю глаза от опилок. Серый зимний рассвет. Надо мной почему-то нет звезд, вместо них потолок, тусклый отблеск стекла абажура. Я в постели, раздет, под одеялом. Жар стыда и обиды заливает лицо — отвели, как ребенка, в кроватку, уложили, раздели, как маленького. Ну какой из меня мужчина, если мной играют, как в куклы. От стыда я хочу провалиться сквозь пол или вовсе исчезнуть, стать ниткой в подушке, пылинкой на лампе, пятном на обоях.
Она рядом. Одета, лежит на одеяле. В серых сумерках чуть видно лицо. Осторожно беру ее за руку — открывает глаза. В них отсвет покоя и далекого мира, не доступного мне. Смотрит мимо меня, ей, наверное, снились полдень, лес, ручей и стрекозы. Меня же не замечает — миг, другой, целую вечность, и это обидно. Ну пожалуйста, взгляни на меня!
Миг за мигом, целую вечность, смотрит мимо, но в глазах засветилось лукавство.
— Почему ты меня не ласкаешь? Я больше не нравлюсь тебе?
Я целую ее, еще и еще, она, подставляя лицо, закрывает глаза, как котенок на солнце. Нравишься, конечно же нравишься, только это не то слово, и нет вообще таких слов, чтобы это назвать! Я пугаюсь собственной жадности, вернее — боюсь испугать ее, но сдержаться не в силах, и ласки становятся все ненасытнее, в них хочется задохнуться, раствориться, совсем пропасть.
— Подожди, — говорит она неожиданно рассудительно, — я замерзла, мне нужно сначала согреться. — Она садится в постели и преспокойно принимается раздеваться.