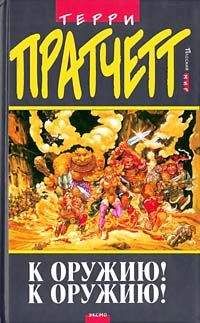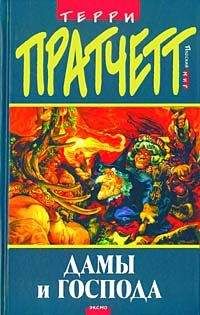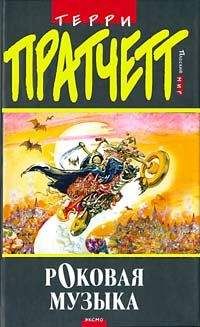Он вытеснил Ур-Гилаша. И поделом ему. Закон джунглей. Но ему-то никто не угрожал…
А где Брута?
— Брута!
Брута считал вспышки света с берега.
— Как удачно, что у меня оказалось зеркало, правда? — с надеждой в голосе спрашивал его капитан. — Надеюсь, его преосвященство не поставит мне это в вину, ведь оно пришлось так кстати…
— По-моему, он считает иначе, — ответил Брута, не сводя глаз со вспышек.
— Вот и мне так кажется, — уныло согласился капитан.
— Семь, а потом четыре.
— Я попаду в квизицию, — пожаловался капитан.
Брута уже собирался сказать: «Так возрадуйся же тому, что душа твоя наконец очистится», — но передумал. Сам не зная почему.
— Э-э, сочувствую, — промолвил он вместо этого.
Маска удивления на мгновение скрыла печаль капитана.
— Обычно вы говорите что-нибудь об очищении души, которому так способствует квизиция, — сказал он.
— Очистить душу никогда не мешает.
Капитан внимательно следил за его лицом.
— Знаешь, а он ведь плоский, — тихо промолвил он. — Я плавал по Краевому океану. Он — плоский, и я видел Край. И движение. Не Края, а там, внизу. Мне могут отрубить голову, но она… она движется!
— Но для тебя она скоро может перестать двигаться, — ответил Брута. — На твоем месте, капитан, я бы более тщательно выбирал себе собеседников.
Капитан наклонился ближе.
— И все-таки Черепаха Движется! — прошипел он и бросился бежать.
— Брута!
Вина заставила Бруту резко выпрямиться, так изгибается пойманная на крючок рыбешка. Он быстро обернулся и облегченно вздохнул. Это был не Ворбис, а всего лишь Бог.
Он прошлепал к мачте. Ом свирепо взирал на него единственным оком.
— Да?
— Ты совсем меня забросил, — изрекла черепашка. — Понимаю, ты очень занят… — И добавила язвительно: — Мог бы хотя б разок помолиться.
— Утром я тебя навещал. Пошел к тебе, сразу как проснулся, — возразил Брута.
— Я голоден.
— Вчера вечером ты съел кожуру целой дыни.
— А кто съел дыню, м-м?
— Это не он, — сказал Брута. — Он ест только черствый хлеб и запивает его простой водой.
— А почему он не ест свежий хлеб?
— Потому что ждет, когда тот зачерствеет.
— Ага, так я и думал, — кивнула черепашка. — Очень логично.
— Ом?
— Что?
— Капитан только что сообщил мне нечто странное. Он сказал, что мир — плоский и у него есть Край.
— Да? Ну и что?
— Но, то есть мы-то знаем, что мир — круглый, ведь…
Черепашка мигнула.
— Это не так, — сказала она. — Кто сказал, что мир — круглый?
— Ты сам и сказал, — ответил Брута и добавил: — В Первой Книге Семикнижья, если ей, конечно, можно верить.
«Раньше я никогда не ставил это под сомнение, — подумал он. — Во всяком случае, никогда так не говорил».
— Почему капитан вдруг решил рассказать мне об этом? — спросил он. — Нормальной беседой это не назовешь.
— Говорю тебе, этот мир создал не я, — вздохнул Ом. — Зачем мне было это делать? Он уже был создан. Но если б я и создал мир, то круглым бы его ни за что не сделал. Люди стали бы с него падать. И все море вылилось бы до дна.
— Не вылилось бы, если бы ты приказал ему остаться.
— Ха! Вы только послушайте его!
— Кроме того, сфера — это идеальная форма, — не сдавался Брута, — потому что в книге…
— Не вижу ничего особенного в сфере, — пожала плечами черепашка. — Если подумать, черепаха — вот идеальная форма.
— Идеальная форма для чего?
— Ну, во-первых, это идеальная форма для морской черепахи. Если бы она имела форму мяча, то постоянно выпрыгивала бы на поверхность, как какой-нибудь пузырь.
— Говорить, что мир — плоский, это ересь, — указал Брута.
— Возможно, но это правда.
— И он действительно покоится на спине гигантской черепахи?
— Он действительно там покоится.
— В таком случае, — торжествующе сказал Брута, — на чем стоит сама черепаха?
Черепашка непонимающе уставилась на него.
— Ни на чем она не стоит, — наконец фыркнул Ом. — Ради всего святого, это морская черепаха. Она плывет. Именно для этого черепахи и предназначены.
— Я… э… думаю, я лучше пойду, доложу Ворбису о том, что увидел, — пробормотал Брута. — Если его заставлять ждать, он становится чересчур спокойным. Зачем я тебе был нужен? После ужина постараюсь принести тебе что-нибудь перекусить.
— Ты как себя чувствуешь? — участливо спросила черепашка.
— Очень хорошо, спасибо.
— Питаешься нормально и все такое прочее?
— Да, спасибо.
— Очень рад это слышать. А теперь беги. Я просто хотел сказать, я ведь твой Бог, как-никак, — крикнул Ом вслед убегающему Бруте. — И ты мог бы навещать меня почаще!
— И молиться погромче. Мне надоело напрягаться, чтобы тебя расслышать! — уже во весь голос проорал он.
* * *
Ворбис все еще сидел в своей каюте, когда запыхавшийся Брута постучал в его дверь. Ответа не последовало. Подумав немного, Брута решил войти.
Никто не видел, чтобы Ворбис читал. Он писал, это было очевидно, хотя бы по знаменитым Письмам — впрочем, этого тоже никто не видел. Оставаясь один, он проводил время, уставившись в стену или лежа ничком в молитве. Ворбис умел унижать себя в молитве так, что позы одержимых жаждой власти императоров выглядели по меньшей мере раболепными.
— Гм, — смущенно произнес Брута и попытался закрыть дверь.
Ворбис раздраженно махнул рукой и встал. Он даже не стал отряхивать пыль с рясы.
— Знаешь, Брута, — сказал он. — В Цитадели не найдется ни единого человека, который посмел бы прервать мою молитву. Квизиции боятся все. Кроме тебя, как мне кажется. Ты боишься квизиции?
Брута смотрел в черные зрачки глаз с черными белками. А Ворбис глядел на круглое розовое лицо. Лица людей, говорящих с эксквизитором, обычно принимали особое выражение. Они становились тупыми, лишенными всяких чувств и немного блестели, поэтому даже эксквизитор-недоучка легко мог прочесть на них плохо скрытую вину. Брута выглядел запыхавшимся, но паренек почти всегда таким выглядел. Это было просто поразительно.
— Нет, господин, — ответил он.
— Нет?
— Квизиция защищает нас, господин. Так писал Урн, глава VII, стих…
Ворбис склонил голову набок.
— Я знаю, что он писал. Но ты когда-нибудь задумывался, что квизиция ведь может и ошибаться?
— Нет, господин.
— Но почему нет?
— Не знаю, господин Ворбис. Просто никогда не задумывался.
Ворбис сел за маленький письменный стол, который представлял собой доску, откидывающуюся от стены каюты.
— И ты прав, Брута, — кивнул он. — Потому что квизиция ошибаться не может. Все идет так, как того желает Бог. Невозможно представить, чтобы мир развивался по-другому, верно?
В сознании Бруты на мгновение всплыл образ одноглазой черепашки.
Брута никогда не умел врать. Истина порой казалась столь непостижимой, что он не видел причин еще больше усложнять ситуацию.
— Так учит нас Семикнижье, — пробормотал он.
— Если есть наказание, всегда есть преступление, — продолжал Ворбис. — Иногда они меняются местами, и преступление следует за наказанием, но это лишь доказывает предвидение Великого Бога.
— Так всегда говорила моя бабушка, — машинально произнес Брута.
— Правда? Расскажи мне еще об этой поразительной женщине.
— Она всегда порола меня по утрам, так как, по ее мнению, в течение дня я обязательно совершу что-нибудь, заслуживающее порки.
— Вот оно, наиболее полное понимание природы человека, — согласился Ворбис, подпирая голову ладонью. — Если бы не ее пол, этот маленький недостаток, из нее получился бы превосходный инквизитор.
Брута кивнул. О да, несомненно.
— А теперь, — промолвил Ворбис тем же мерным голосом, — расскажи, что видел в пустыне.
— Э… Было шесть вспышек, затем пауза, длившаяся пять ударов сердца. Затем восемь вспышек. Еще одна пауза, и еще две вспышки.
Ворбис задумчиво кивнул.
— Три четверти, — подвел итог он. — Хвала Великому Богу. Он опора и поводырь в трудные времена. Можешь идти.
Брута и не надеялся на то, что ему объяснят значение вспышек, поэтому не стал ни о чем расспрашивать. Вопросы задает квизиция. Именно этим она и знаменита.
На следующий день судно обогнуло мыс, вошло в Эфебскую бухту, и город появился перед ними белой кляксой, которую время и постоянно сокращавшееся расстояние вскоре превратили в ослепительно белые дома, усыпавшие гору.
Сержант Симони не отрывал от города глаз. За время путешествия Брута не обменялся с легионером и парой слов. Дружба между духовенством и военными не поощрялась; среди легионеров наблюдалась явная тенденция к нечестивости…
Команда начала подготовку к заходу в порт, Брута снова был предоставлен самому себе и мог внимательно понаблюдать за сержантом. Большинство легионеров не отличалось аккуратностью и грубо относилось к младшему духовенству. Симони был другим. Кроме всего остального он просто сиял. Его нагрудник слепил глаза. А кожа была такой, словно ее чистили щеткой с мылом.