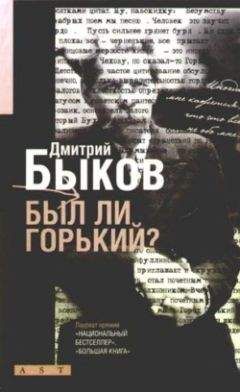— А буй ли? — восклицал иной горожанин, получая задание от начальства, — и, услышав, что буй, то есть деваться некуда, плелся исполнять.
— С буя сорвался! — говорили о каком-нибудь самом осатанелом правозащитнике, который пытался сквозь буи прорваться на радио «Свобода».
Предложение же сосать буй, который и в рот-то не лезет, означало нечто заведомо невыполнимое.
Настал, однако, день, когда царь вышел из своей резиденции, не дозвавшись никого из челяди, и обнаружил, что уличное движение прекращено и даже помочь ему одеться некому, ибо никто с утра не вышел за пределы четко очерченной буями территории. Страна была забуевана, скована буями, оцеплена ими, как сочинский пляж, и только из Шереметьева, где кучковались последние олигархи, доносилось Володино отчаянное «Куды?!». Он пытался забуянить взлетную полосу.
— Порядок, — вздохнул новый царь и с чувством исполненного долга отправился почивать дальше. Это и впрямь был он — тот вожделенный порядок, о котором он всегда мечтал. Тишь и неподвижность царили над страной, и лишь самодовольные красные буи подмигивали повсюду.
Зато в Сочи настало теперь настоящее раздолье. Те немногие, что успели туда добежать, чувствуют себя превосходно. Они резвятся на пляже, плавают куда хотят, и некоторые, говорят, доплыли уже почти до самого басурманства. Басурмане, конечно, люди дикие и галушек не едят. Но и не обуячат кого попало по роже за попытку сделать шаг влево, шаг вправо или слегка подпрыгнуть на месте.
Стоял терем-теремок, не низок, не высок, и где он находился — толком никому не было известно, поскольку из него осуществлялось партийное руководство Родиной. Родиной называлось пространство вокруг теремка — чрезвычайно просторное болото, раскинувшееся на восемь климатических поясов и полное полезных ископаемых. Ископаемые добывались из болота вручную и свозились в теремок, а взамен оттуда поступали руководящие указания. Правда, отмечался некоторый диссонанс между посылаемым ископаемым и получаемым исходящим: никогда нельзя было угадать, что ответят из теремка в следующий раз.
К примеру, посылают туда уродившуюся на болоте курицу, а оттуда раздается:
— Крепите!
Шлют им золотой самородок, а они:
— Соединяйтесь!
Поэтому не только местоположение теремка, но и мотивы действий его обитателей были принципиально непонятны совершенно дезориентированным лесным жителям.
Особенность теремка заключалась в том, что обитало там одно-единственное существо, и в этом-то и заключалась высшая демократическая мудрость болото-устройства. Во всех прочих теремках, руководивших разными странами на так называемом гнилом Западе, обитателей было либо очень много, на выбор, либо по два. Так, в заокеанском теремке жили слон и осел. В последнее время они сделались совершенно неотличимы — оба были серые, оба большеухие, оба трубили, — но символическое разделение тем не менее сохранялось: слон и осел правили по очереди. Например, поруководит лет восемь слон, граждане задумаются, почешут в заокеанских своих затылках и скажут:
— Чегой-то, братцы, давно осляти не было?
— Валяй, осел! Правь, ишачина!
В островном теремке тоже обитали двое и тоже правили по очереди: одни назывались консерваторами (видать, консерву делают, укупорку, закатку, — догадывались жители-Родины). Вторых звали так замысловато, что никто на Родине выговорить не мог: эти, видимо, предпочитали живой продукт. Между ними иногда бывали кровавые стычки, но потом надолго воцарилась какая-то железная баба (самая главная консерватории), и политическая жизнь в островном теремке надолго затихла.
Иногда, конечно, на болоте вспыхивали голубоватые болотные огни всякого рода прений и дискуссий: хорошо ли, что у нас в теремке обитает всего одна сущность? Но, покалякав промеж себя, жители Родины приходили к естественному выводу, что какое-никакое разделение в их жизни все же существует, а именно — на теремок и болото; и таковая двухпартийное™ вполне способна заменить любую оппозицию. Тем более что с каждого дуба, еще не прогнившего на том болоте, свисал гордый лозунг «Теремок и болото — едины!»
О сущности, обитавшей в теремке, никто ничего достоверно не знал. Поговаривали только, что живет там красный, но кто красный — было таинственно. На деле же владел теремком о ту пору красный петух, бывший некогда очень огнеопасным, но теперь присмиревший и вошедший во вкус мирной жизни. В нынешнем виде теремка, однако, ему становилось тесно. Хотелось вытащить из погреба всякого рода подпольные богатства, накопленные за годы власти (куры, самородки, колбаса — все шло в погреб, поскольку внешне теремок должен был сохранять аскетический вид, хотя его все равно никто не видел). Чтобы легализовать накопленное, разложить его вокруг себя, ходить и любоваться, петух задумал перестройку теремка: в его надземную часть подземные богатства не влезали.
Он не учел, однако, того, что в ходе перестройки надземная эта часть станет видна и — более того — широко обсуждаема. На болоте возникла даже видимость общественной жизни, шакалам разрешили тявкать, болотные огни кухонных дискуссий заполыхали во всю мочь, и скоро в воздухе зародился естественный вопрос:
— А пошто у нас до сих пор в теремке нет альтернативы?
Петух, защищая монополию, первым почуял необходимость перемен. Он выкликнул давнюю обитательницу теремка — мышку-наружку, называвшуюся так потому, что она осуществляла наружное наблюдение; народ этого не знал и в простоте своей звал ее норушкой, от слова «норка».
— Слышь, мышка-наружка, — заговорщицки прошептал петух. — Создай мне партию, да быстро! Чтоб видимость была!
— Что за партию, касатик? — спросила проворная наружка.
— Ну не знаю, какую хочешь! Чтоб орала погромче! И, само собой, чтоб на теремок не посягала!
— Сделаем, — кивнула мышка, которой от щедрот петуха регулярно перепадало, и на свет появилась партия Жириновского, состоявшая из одной говорливой мышки и нескольких десятков молчаливых, которые даже если б и хотели — все равно не могли говорить, потому что все время жевали. Говорливая мышь пищала на всех углах, создавая видимость партийной жизни, и яростно обличала всех вокруг, кроме петуха. Послушать ее — выходило, что она и есть истинный хозяин теремка.
При виде буйной мыши подпольного происхождения в болоте зашевелились демократические силы. Большая пучеглазая лягушка ультрадемократических убеждений, сопровождаемая десятком таких же отважных квакуш, постучалась в дверь теремка, по швам трещавшего от перестройки:
— Тук-тук, кто в тереме живет?
— Я, петушок — золотой гребешок!
— И я, мышка-наружка!
— А я лягушка-квакушка, — сказала лягушка. — Лидер партии «Демократический союз». Хочу у вас жить.
— Да нам самим не хватает! — в один голос фальшиво воскликнули петух и мышь.
— Мне вашего награбленного добра не надобно, — гордо отказалась квакушка. — Я квакать хочу!
— Ну черт с тобой, полезай, — махнул крылом петух. — В другое время я бы тебя, конечно… но раз таперича демократия…
Следующим прилетел комар-пискун с партией «Выбор болота» — на болоте комаров водилось немерено — и принялся за структурные реформы экономики; в результате этих структурных реформ бойкая команда жучков-древоточцев довела теремок до такого состояния, что перестраивать его было уже безнадежно, а новый строить не из чего, — так и стали жить в развороченном. Партия «Выбор болота» была большая — у комаров же, как известно, очень много всяких членов и сочленений; у мышки-наружки, например, член был всего один, хоть и очень заметный, у лягушки вообще никакого, зато комары имели полное право гордиться массовостью.
Пищали же они так, что на гнилом Западе слушали да радовались. «Ишь, гласность в России прорезалась!» — умилялись меж собою слон и осел. Впрочем, когда запасы в подполе были уже основательно подъедены, партия «Выбор болота» фактически самораспустилась, а из остатков ее собрали таинственный «Союз правых», хотя где право, где лево — никто уже толком не знал.
Дальше повалили валом: петух пытался было протестовать, намекая, что он — ум, честь и совесть теремка, но когда он стал очень уж громко подавать голос, его вообще предложили запретить, чтоб не кукарекал, и он заткнулся, для порядку из петуха переименовавшись в курицу. Это, впрочем, вполне соответствовало духу времени: ПЕТУХ ведь в революционные времена расшифровывалось как Партия, Ети Твою, Ужасно Храбрых, а КУРИЦА — в демократические времена — была Комитетом Униженных Режимом Истинно Центристских Аппаратчиков.
От партий в теремке скоро стало нечем дышать: любая болотная тварь, собравшись по двое, организовывалась в партию, перекатывала по фразе из программ всех соседних партий, шла регистрироваться и ломилась в теремок. В результате все программы состояли из одних и тех же фраз, но в разных комбинациях: в одних, либеральных, — «Свобода, Держава, Отечество и всем поровну еды», в других, консервативного толка, — «Отечество, Держава, Еда и всем поровну свободы», а в третьих, национально-окраинных, — «Свобода, Держава, Еда и всем поровну Отечества».