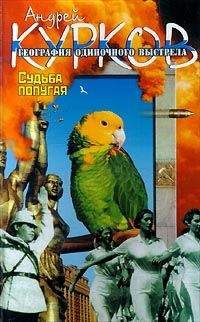— У вас такое плохое зрение! — с сочувствием сказала Валентина Ефремовна.
— Да, после войны… — Марк тяжело вздохнул.
Валентина Ефремовна понимающе кивнула.
В камеру Марк возвращался с двумя стопками книг. Одну стопку нес сам, а вторую надзиратель. Среди книг была не только поэзия. Воспользовавшись моментом, Марк прихватил из библиотеки и несколько приключенческих романов про шпионов и пограничников, а также избранные речи товарища Тверина.
Уже в камере, забирая от надзирателя вторую стопку, Марк не удержался и радостно улыбнулся. От этой счастливой улыбки даже надзиратель расслабился и, проникшись доверием к своему подопечному, сказал на прощанье: «Вот Фенимор Купер — это писатель! Это как Горький, только про Америку!» И ушел. Рассказав Кузьме про чаепитие в библиотеке, Марк прилег отдохнуть, но отдохнуть не успел. Пришел Юрец с длинноруким стариком. Старик принес сверток, и Марк понял, что сейчас надо будет выступать. Вытащил попугая из клетки, посадил на плечо.
Услышав, как Кузьма читает зэковские баллады, старик открыл рот, и сидевший напротив него Марк ощутил в воздухе что-то неприятное.
За «концерт» старик заплатил хорошеньким куском сала, но минут через пятнадцать после их ухода Юрец вернулся и отрезал от этого куска половину себе.
Солнце уже заползло на нары. Марк, пододвинув клетку с Кузьмой к солнечному лучу, сам тоже устроился поудобнее и раскрыл книгу речей товарища Тверина.
Красный Первомай Краснореченск встречал новыми трудовыми победами. Закончилось строительство второго цеха по производству питьевого спирта. Добрынин и Ваплахов получили по премии и по медали «За доблестный труд». Добрынин на всю премию купил книг, а Ваплахов — облигаций государственного займа.
Утром первого мая они пришли на завод, чтобы влиться в колонну демонстрантов, но неожиданно их вызвал директор Лимонов. Он сообщил народным контролерам, что отныне их место во время всех государственных праздников — на торжественной трибуне. Туда они и отправились.
Стоять на торжественной трибуне в ожидании начала демонстрации было почетно и приятно. Рядом, переступая с ноги на ногу, стояли ответрабы Краснореченского горкома и горисполкома, стояли в парадной военной форме полковники, подполковники и два генерала.
Заиграл военный духовой оркестр.
Добрынин и Ваплахов, как и другие, стоявшие на трибуне, повернули свои головы в ту сторону, откуда должны были прийти первомайские колонны демонстрантов.
Широкая центральная улица, носившая название Профсоюзная, была пока пуста, но звуки духового оркестра, метавшиеся над улицей и над площадью, в которую эта улица вливалась, настолько все оживляли, что казалось — мимо маршируют, старательно чеканя шаг о булыжную мостовую, невидимые колонны рабочих и работниц славного города Краснореченска.
Добрынин закрыл глаза и сразу ощутил на веках тепло утреннего весеннего солнца.
Ваплахов тоже щурил глаза. Легкий ветерок шевелил его седые волосы. На душе было спокойно и радостно. На душе был праздник, и Ваплахов думал о том, что точно такой праздник сейчас, наверно, на душе у Тани Селивановой. И не страшно, что она еще не написала ему. Главное — это то, что он ей написал, и ей теперь известны его мысли и чувства. И есть у Тани Селивановой его фотография. Может быть, сейчас эта фотография в строгой рамочке стоит на тумбочке у изголовья ее кровати, а, может. быть, она хранит его портрет на своем рабочем месте в шинельных мастерских.
Над горизонтом Профсоюзной улицы появились сначала флаги и транспаранты, а затем уже показались и люди, празднично одетые, широко улыбающиеся, кричащие «Ура!».
Добрынин, Ваплахов и другие, стоявшие на трибуне, радостно махали руками проходившим мимо демонстрантам и так же широко и радостно улыбались, встречаясь взглядами со знакомыми и незнакомыми краснореченцами.
Потом прошла колонна пионеров. Оркестр на время замолк, и сотни ребячьих голосов запели: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры — дети рабочих…» Добрынин смотрел на этих мальчуганов и девчонок и завидовал им от всего сердца.
У него не было такого счастливого детства. Мальчишкой он пай коров у местного помещика. Пасс рассвета А до позднего вечера и, если б не революция, пас бы их и сейчас.
За колонной пионеров следовала октябрятская колонна. Впереди шагали юные барабанщики, выдавая звонкую дробь. Над колонной колыхались надувные шарики, красноармейцы, рабочие и матросы.
Добрынин, увидев надувные резиновые фигуры, обернулся к Дмитрию Ваплахову. Улыбка озаряла его лицо. Он думал о Сарске, о том, сколько сил они с урку-емцем отдали фабрике надувной резины! И вот теперь они видели очевидную пользу своего недавнего труда.
Ваплахов тоже обернулся к Добрынину. Их глаза и улыбки встретились. И столько всего возникло в этом прогретом солнцем майском воздухе, столько всего возникло между ними, двумя старыми друзьями, что каждый из них, вдохнув полные легкие, ничего сказать не мог — ведь не выговоришь на одном дыхании все чувства, копившиеся в душе долгие годы, начиная с их знакомства на дальнем, полном опасностей. Севере! И если б не это знакомство — не увидел бы Добрынин нынешний Первомай.
Обняли друг друга Добрынин и Ваплахов под недоумевающими взглядами ничего не знающих ответственных работников и военных командиров города Красноре-ченска.
А октябрята остановились перед почетной трибуной, повернулись лицом к красному полотнищу с портретом Ленина, развевающемуся за спинами стоявших на трибуне людей.
Зазвенела на площади октябрятская речевка, и вдруг, словно внезапно оторвавшись, одновременно взлетели над трибуной надувные шарики, а вместе с ними и надувные красноармейцы; рабочие и матросы. Взлетели высоко, выше крыш трехэтажных домов. И все поднимались и поднимались под самый небосвод, пока не подхватил их там ветер, пока не закрутил он их, не разбросал по всему городскому небу.
И смотрели вверх, следя за ними, десятки и сотни глаз — и детских, и взрослых. И оба генерала, прикрывая ладонью глаза от солнца, смотрели вверх, и один из полковников, приставив к глазам бинокль, и два народных контролера, для которых все эти взлетевшие в небо надувные изделия значили гораздо больше, чем для других.
* * *
Несколько дней спустя от прямого попадания молнии загорелся и до тла выгорел заводской детский сад. Случилось это ночью, а уже рано утром, около пяти часов, Добрынина и Ваплахова срочно вызвали в горком.
Все те, кто, улыбаясь и махая руками, стояли недавно на почетной трибуне, сидели теперь за длинным полированным столом, зевая и потягиваясь. Вопрос был серьезный, и решить его надо было быстро, до начала рабочего дня. Собравшиеся соображали с трудом.
— Учтите, — сказал секретарь горкома, — пока не решим, куда девать детей на время постройки нового сада, отсюда не выйдем!
К семи утра заседание окончилось. Решено было разрешить работницам брать детей с собой на работу. На спиртозаводе для этого решили отвести один угол в ленинской комнате и приставить туда в качестве воспитательницы одну из молодых работниц завода. С детьми военных проблем не было — уже ночью солдаты начали ставить на территории части палатки, а один сержант вызвался временно присматривать за детьми офицеров и прапорщиков. Оставались неустроенными дети работников торговли и обслуживания, но они и так чаще бывали на работе у своих родителей, чем в детсаду.
Не выспавшись, Добрынин и Ваплахов пришли на завод и очень скоро поняли, что в ближайшее время им придется работать с двойной отдачей.
Уже с самого утра, как только все дети были собраны в ленинской комнате, примыкавшей к главному цеху, дисциплина на заводе не просто упала, а рухнула. Работницы каждые полчаса пытались на пять минут бросить свои рабочие места, чтобы сбегать в главный цех и заглянуть в ленкомнату, проверить, как там их сын или дочка.
Перед обедом директор Лимонов, вызвав народных контролеров, приказал им запретить всякие хождения в цехах и всех нарушителей дисциплины брать на заметку для дальнейших наказаний.
Добрынин стал на одном входе в главный цех, Ваплахов — на втором. Женщины плакали, умоляли их впустить посмотреть на свое чадо. И хоть трудно было контролерам терпеть женские слезы, но стояли они твердо и никого не впускали.
Главный цех отличался огромными размерами. В нем поднимались на пятиметровую высоту стальные чаны, заполненные еще не перелитым в цистерны спиртом. Десятки мостков, лестниц и подвесных переходов сплетались под потолком в черную металлическую паутину, по которой то и дело сновали люди в черных комбинезонах, останавливаясь у вентилей и показателей давления протянутых параллельно мосткам труб.
Время медленно подтянулось к вечеру, и когда ровно в пять Добрынин и Ваплахов отошли от дверей, в главный цех хлынул поток мам, спешивших первыми добежать до ленкомнаты, чтобы, забрав своих детей, отправиться домой.