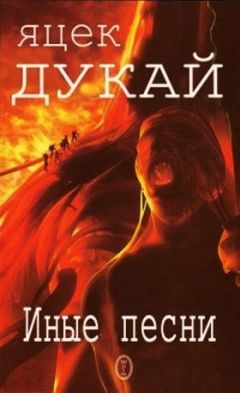— Есть жертвы, — говорит риттер Жарник. — Доспех не держит залпы из картечниц, а еще следи за гноелазами, они плюют каким-то кислотным ядом.
Они выглядывают в окно из бархатного покоя на третьем этаже Арсенала. Из-за золотого купола Храма Землеяда бьет голубая вспышка, над кремлем проносится ритмичный гром, от которого звенят стекла. Стекло, через которое они смотрят, трескается после третьего грохота. Это «Уркайя» превращает в руины казармы булашков по ту сторону.
— Тимофей?
Омиксос указывает огоньком большого пальца вниз.
По скользким от крови ступеням, сквозь дым и темную пыль спускается стратегос Иероним Бербелек; сперва становятся видны кирпично-красные полы его гердонского пальто.
— И где этот Роговой Зал?
Риттер Жарник успокаивает вращение своего доспеха и склоняет голову перед стратегосом.
— Прошу за мной, эстлос.
На ходу Бербелек оправляет манжеты рукавов пальто и рубахи. Застегивает верхнюю пуговицу под шеей, стряхивает пепел с плеч. Теперь Форма будет важнее всего. Аурелия всматривается в него сквозь успокоившийся кругошлем. Эстлос перехватывает ее взгляд.
— Нужно было приказать Бабушкину отполировать мои югры, хоть для чего-то пригодился бы. — Бербелек посылает Аурелии кривую усмешку.
Аурелия усмешкой не отвечает.
— Не было предательства, — говорит она. — Ты болен ложью, кириос.
— И все же было. К счастью, предали не меня.
Они выходят в выложенный гиексовым паркетом зал, наполненный древними доспехами и знаменами. Паркет — чаще всего порублен и сломан, доспехи — разбиты, знамена — сгорели или продолжают гореть. Сквозь выбитые окна врывается холодный ветер.
В стенах зала — шесть дверей; все распахнуты либо вырваны из притолок за исключением средних северных — выполненных из бронзы и ликота, со сложным рельефом. Над ними висят рога безымянного какоморфа.
Перед дверьми, со вскинутыми к плечам кераунетами и в отвратительно воющих доспехах, стоят на страже четверо Наездников Огня.
— Двое вошли и до сих пор не вернулись, — говорит риттер Аблазос. — Он остался там, внутри, на вторые двери мы обвалили северные галереи, сбежать он не мог.
— Закрыто?
— Закрываются сами. Меканизмы, спрятанные в стене. Кириос?
— Только меня случайно не застрелите, — бросает стратегос, оглаживая фалды пальто. — Не удивляйтесь, если эти двое на вас выскочат: за это время, скорее всего, они успели искренне полюбить его. Аурелия, открывай.
— Пойду с тобой, кириос.
— Нет.
— Я поклялась. Один ты не войдешь.
Стратегос смотрит на нее некоторое время, сиречь — два удара невидимой «Уркайи», сыплется штукатурка, дрожат стены.
— Останешься у дверей. Не сдвинешься с места, даже если он мне сердце вырвет. Дай слово риттера.
— Кириос…
— Дай слово.
Аурелия сжимает челюсти, пламя выстреливает вокруг ее головы.
— Не могу. Не дам. Нет.
Стратегос кивает.
— Хорошо. Можешь войти.
Аурелия оттягивает молоточек кераунета, проверяет пирос на наковаленке. Дядюшка Жарник приподнимает на прощание ладонь. Аурелия шепчет молитву к Госпоже. Она стоит в огне, пирос загорается в ее венах.
Пинает бронзовые двери.
Входят.
Трупы. Западная стена увешана десятками самых разных экзотических рогов, на восточной стене — галерея хрустальных окон на панораму Москвы, обе стены длиной в несколько десятков пусов. Большинство рогов упали, лежат высокими кучами, перемешавшись с останками мужчин и женщин в длинных одеждах. Трупы, трупы. Хрусталь узорчатых окон покрывает наборный паркет на противоположной стороне зала, по хрусталю вышагивает высокий черноволо… — кириос, кириос, кириос — не смотри на кратистоса!
Аурелия вскидывает к плечу спиральный приклад кераунета и стреляет Чернокнижнику в висок. Сразу же опускает и принимается перезаряжать оружие.
Иероним Бербелек качает головой. Идет к тому. Заслоняет ей цель.
Несколько фраз, произнесенных голосом кратистоса на неизвестном Аурелии языке, — стратегос отвечает. Некоторое время они говорят по-московски. Аурелия всматривается в замок кераунета. Не разговаривай с ним! Убей его! Не разговаривай с ним! Это кратистос! Ударь с ходу! Не раздумывая! Не разговаривай с ним! Аурелия всматривается в замок кераунета. Куда подевались те двое гиппирои? Или Вдовец приказал им перерезать себе горло?
Даже не дав себе в этом отчета, она тем временем отступает под стену; рога над ней вспыхивают огнем. Не поднимает взгляд. Шаги, треск раздавливаемого хрусталя, шелест материи, спокойные голоса двух мужчин. Она стискивает зубы, слушает сквозь слаженное гудение пламени, сквозь рев разогнавшейся крови.
Те перешли на греческий:
— …но это ведь были твои псы, ты их кормил, твоя морфа.
— Да. Я тоже в последнее время думал над этим. Когда ты брал ее в жены — кратистос и смертная — не мог не знать.
— Ах, потому что ты не понимаешь одного: это и вправду была любовь. С ее стороны — это понятно; но и с моей тоже.
— Миранда Аюда Каржанка.
— Теперь лишь историки.
— Я много читал. Драмы, песни, поэзия — сказочки для народа. В самых старых источниках — не было никакого покушения.
— Более тысячи лет назад, да, более тысячи. С тем покушением, хм, — а как думаешь сам, кормитель псов?
— Не было никакого покушения.
— Не было покушения, но есть Вдовец. Чем сильнее я любил ее, тем меньше в Миранде оставалось от Миранды. Она уже не могла выдержать ни дня вдали от меня. А поскольку она не могла меня убить… Можно ли ненавидеть такую прекрасную крысу? Но можно ли любить такую прекрасную крысу? Как ты с этим справляешься, кормитель псов?
— Дева Вечерняя наверняка смогла бы меня убить.
— Ах, Шулима, она. Да. Тебе повезло. А твоя первая —
— Это была случайность. Псы.
— Это всегда — случайность. Впрочем, тебе известна эта яростная боль после ее смерти, эта страшная ненависть, отчаяние, кое и есть ненависть. Известна-известна.
— Я не ненавижу людей.
— Это благородней, чем их презирать. Дисциплина и страх необходимы, и иерархия сильной власти, порядок подчинения, при котором никогда не наступит смешение слабых и сильных, господ и невольников, любви и послушания. Ты ведь знаешь.
— Един есть Чернокнижник.
— Можешь не верить, но эта морфа меня уже ожидала. В этой земле, в этих людях, в их истории, языках, религиях — ожидала меня, была предуготовленной, окончательной, целесообразной. Тут именно через нее проходит дорога к божественному совершенству. Вдовец привел к осуществлению потенциала более древнего, чем он сам, сумел верно прочесть керос. Смотри. Зимняя радуга.
— Это лунная ладья уничтожает твой бестиарий.
— Красиво. Века тому назад я носился с идеей жениться на Госпоже, но после представил, кто мог бы родиться из такого союза, — и остался со своей властью. Не знаю, кто произвел в мир Искривление, но это был не я. И что говорят кратистосы бывших ее земель о ее возвращении?
— Она не возвращается.
— Возвращается-возвращается. Слышал, что Навуходоносор должен избрать твою дочь, кормитель псов, воспитанницу Лакатойи. Возвращается. Погляди. Снова выну…
Их дыхание, трещащий под каблуками хрусталь, шелест быстрых движений — Аурелия поднимает взгляд.
Иероним Бербелек выдергивает кинжал с пламенно выгнутым клинком из груди кратисто — человека, который был кратистосом. Выдергивает, глядит на него с удивлением и втыкает снова — раз, два, три, четыре — кровавое пятно расплывается на белой рубахе мужчины. Иероним Бербелек на этот раз опускает кинжал, отступает на шаг. Левой рукой машинально проводит по идеально ровному материалу своего пальто.
Максим Рог неуверенно отступает, оскальзываясь на хрустале. Натыкается рукой на поставленное у окна кресло, садится — вернее, бессильно рушится в него. Рубаха его покраснела уже вся.
Иероним Бербелек стоит над ним с кинжалом у ноги, с волнистого острия падают карминовые капли: кап, кап, кап. Иероним Бербелек стоит и ждет, всматриваясь в медленно дышащего Рога.
Максим переводит взгляд на Аурелию.
— У меня пересохло в горле, — говорит он, указывая на столик рядом.
Аурелия откладывает кераунет, подходит к столу, подает Рогу кубок с вином. До конца жизни она будет думать, почему это сделала.
Максим принимает кубок, но уже не поднимает его к губам. Рука падает на подлокотник.
Он усмехается эстлосу Бербелеку.
Аурелия только после долгого мига понимает, что Рог мертв.
— Кириос… — начинает она, но стратегос не реагирует.
Аурелия возвращается за кераунетом. От рогов занялась одежда убитых, горит уже вся куча трупов, сладкая вонь отупляет разум. Внезапно она чувствует страшную усталость. На ней гаснет огонь, доспех замедляется.