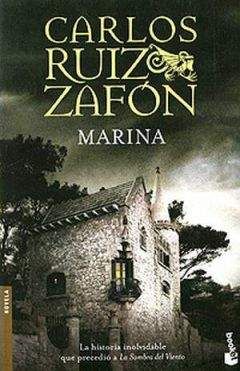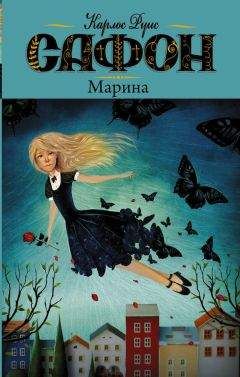— Они настоящие.
Не может быть.
Мы изучили зловещих кукол и на каждой увидели тот же значок. Мы еще раз дернули за рычаг и подняли марионеток наверх. Я смотрел, как недвижимые фигуры поднимаются вверх и подумал, что эти механические души спешили соединиться со своим создателем.
— Кажется, тут что-то есть, — раздался за моей спиной голос Марины.
Я обернулся и увидел, как она указывает на угол оранжереи, в котором стоял старый письменный стол. Его поверхность покрывал толстый слой пыли. По столу полз паук, оставляя за собой крошечный следы. Я присел и стер пыль. В воздухе поднялось серое облако. На столе лежала книга в кожаной обложке, раскрытая на середине. Внизу на старой желто-коричневой фотографии было каллиграфическим почерком написано «Арль, 1903». На ней были изображены сиамские близнецы, сросшиеся корпусами. Нарядно одетые девочки улыбались в камеру самой печальной улыбкой на свете.
Марина перелистывала страницы. Книга оказалась альбомом со старыми фотографиями, самыми обычными и нормальными. Только в том, что они изображали, нормального и обычного не было ничего. Сиамские близнецы были лишь небольшой частью содержимого этого альбома. Марина перелистывала страницы со смесью интереса и отвращения. Я взглянул на фото и почувствовал, как по спине пробежал холодок.
— Какие причудливые формы порой принимает природа… — пробормотала Марина. Безобразные существа, которых раньше показывали в цирке…
Подавляющее действие этих снимков сокрушило меня. Обратная сторона природы явила свой безобразный лик. Невинные души были заперты в невообразимо деформированных телах.
Несколько минут мы в молчании просматривали страницы этого альбома. Фотографии одна за другой показывали нам кошмарных существ. Причем физические уродства не шли ни в какое сравнение с тем ужасом, одиночеством и отчаянием, которое читалось на лицах этих несчастных.
— Боже мой, — прошептала Марина.
Под каждой фотографией был указан год съемки и город, в котором ее делали: Буэнос Айрес, 1893, Бомбей, 1911, Турин, 1930, Прага, 1933… Я не мог понять, кто и зачем мог собрать такую коллекцию. Наконец Марина оторвала взгляд от альбома и отошла в тень. Я попытался сделать то же самое, но тоска и ужас от увиденного приковали меня к этому адскому каталогу. Проживи я еще хоть тысячу лет, все равно буду помнить взгляд каждого из этих существ. Я закрыл книгу и повернулся к Марине. Она судорожно вздохнула, и я, не зная, что сделать или сказать, почувствовал себя совершенно беспомощным. Что-то в этих снимках потрясло Марину.
— Ты в порядке? — Спросил я.
Марина молча кивнула с прикрытыми глазами. Вдруг раздался какой-то звук. Я вглядывался в окружавшие нас тени. И снова этот непонятный звук. Враждебный. Злобный. Я почувствовал запах гниения, навязчивый и тошнотворный. Он доносился из тьмы, как вонючее дыхание из пасти дикого животного. У меня появилось чувство, что мы были не одни. Здесь был кто-то еще. И этот кто-то за нами наблюдал. Марина неподвижно смотрела на черную завесу мрака. Я взял ее за руку и повел к выходу.
Когда мы вышли наружу, дождь одел улицы в наряд из серебра. Был час дня. На обратном пути мы не обмолвились ни словом. У Марины дома Герман ожидал нас к обеду.
— Пожалуйста, не рассказывай ему ничего, — попросила Марина.
— Не беспокойся.
Я понимал, что не стоит вообще говорить о том, что произошло. По мере удаления от этого зловещего места воспоминания об оранжерее и альбоме со снимками ослабевало. Когда мы дошли до площади Саррьи, Марина сильно побледнела и дышала с трудом.
— Ты хорошо себя чувствуешь?
Марина неуверенно ответила «да».
Мы сели на краю площади. Она несколько раз глубоко вдохнула с закрытыми глазами. У наших ног расхаживала стая голубей. На мгновение мне показалось, что Марина упадет в обморок. Но она открыла глаза и улыбнулась мне.
— Не волнуйся. Просто голова немного кружится. Должно быть, от запаха.
— Наверняка. Наверное, там было мертвое животное. Крыса или…
Марина согласилась с таким предположением. Чуть позже на ее лицо вернулись краски.
— Надо бы мне поесть. Пойдем, Герман нас ждет — не дождется.
Мы встали и направились к ее дому. Кафка ожидал нас на ограде. Кот с презрением посмотрел на меня, спрыгнул с ограды и стал тереться о ноги Марины. Я шел, раздумывая о преимуществах котов, как вдруг услышал лунный голос из граммофона Германа. Музыка лилась по саду как приливная волна.
— Что это за музыка?
— Лео Делиб, — ответила Марина.
— Впервые слышу.
— Делиб, французский композитор, — пояснила Марина, удивляясь моему невежеству. — И чему вас только в школе учат?
Я пожал плечами.
— Это из его оперы «Лакме».
— А кто поет?
— Моя мать.
Я в изумлении уставился на нее.
— Твоя мать оперная певица?
Марина твердо посмотрела на меня.
— Была, — ответила она. — Ее больше нет в живых.
Герман ждал нас в главном зале, большой комнате овальной формы. Под потолком висела большая хрустальная люстра. Отец Марины был воплощением этикета. На нем был костюм с жилетом, а белая шевелюра была аккуратно зачесана назад. Он выглядел как пришелец из конца девятнадцатого века. Мы сели за стол со скатертью тончайшей работы и серебряными приборами.
— Нам очень приятно, Оскар, что ты навестил нас, — сказал Герман. — Не каждое воскресенье мы проводим в такой приятной компании.
Тарелки из фаянса были настоящим произведением искусства, притом антикварным. Обед состоял из супа с очень аппетитным ароматом и хлеба. Больше ничего не было. Герман обслуживал меня в первую очередь, и я догадался, что вся церемонность вызвана моим присутствием. Несмотря на приборы из серебра, тарелки как из музея и парадную одежду, в этом доме не хватило бы денег и на одну такую тарелку. Потому не было и света. Дом постоянно освещался свечами. Герман поделился со мной своими соображениями.
— Ты, должно быть, заметил, что у нас нет электричества, Оскар. Это потому, что мы не особенно верим в достижения современной науки. В конце концов, что это за наука, которая может сделать ночь светлой, но не может накормить каждое человеческое существо?
— Я бы сказал, что проблема не в науке, а в тех людях, которые решают, как распорядиться ее достижениями, — возразил я.
Герман поразмыслил надо моими словами и кивнул с серьезным видом — то ли из вежливости, то ли потому, что правда был со мной согласен.
— Я вижу, Оскар, что философия вам не чужда. Вы читали Шопенгауэра?
Я почувствовал на себе взгляд Марины, свидетельствовавший о внимании, с которым она слушала отца.
— Только урывками, — уклончиво ответил я.
Мы вернулись к трапезе в молчании. Герман дружелюбно мне улыбался и то и дело с любовью поглядывал на свою дочь. Что-то мне подсказывало, что друзей у Марины было не много и что Герман приветствовал мое появление в их доме, несмотря на то, что я не знал, чем отличается Шопенгауэр от Оппенгеймера.
— А скажите-ка мне, Оскар, что сейчас происходит в мире?
Он так задал этот вопрос, что я стал опасаться, как бы новость об окончании второй мировой не шокировала его.
— По правде говоря, ничего особенного, — ответил я. Марина внимательно наблюдала за мной. — Скоро выборы…
Это возбудило интерес Германа, который остановил ложку на полпути ко рту и решил развить тему.
— А вы, Оскар? За левых или за правых?
— Папа, Оскар анархист, — отрезала Марина.
Кусок хлеба застрял у меня в горле. Я не знал, что означает это слово, но звучало оно как «антихрист». Герман внимательно и с интересом посмотрел на меня.
— Юношеский идеализм… — пробормотал он. — Понимаю, понимаю. В твои годы я тоже читал Бакунина. Это как корь. Пока не переболеешь…
Я бросил на Марину убийственный взгляд, она же ответила привычной кошачьей улыбкой.
Я отвел глаза и опустил взгляд. Герман наблюдал за мной с добродушным любопытством. Я вежливо кивнул ему и поднес ложку ко рту. За едой хотя бы не надо говорить, а значит, меньше шансов сесть в лужу.
Мы молча пообедали. Я заметил, что сидевший напротив Герман стал клевать носом. Когда в конце концов ложка выскользнула из его пальцев, Марина молча встала и ослабила его шелковый галстук серебристого цвета. Герман вздохнул. Его рука слегка дрожала. Марина обняла отца за плечи и помогла ему встать. Герман послушно встал и слабо, почти стыдливо, улыбнулся мне.
Мне показалось, что он в один миг постарел лет на 15.
— Прошу прощения, Оскар, — сказал он едва слышно. — Годы берут свое…
Я тоже поднялся, взглядом предлагая Марине помощь. Она отвергла мое предложение и попросила меня остаться в зале. Герман опирался на плечи Марины, и они медленно вышли из комнаты.