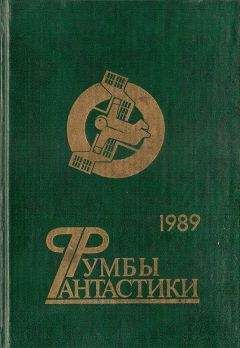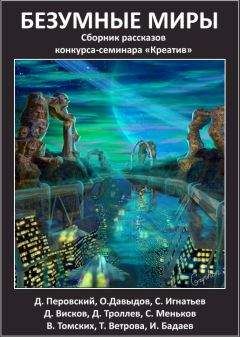Разряженный, купающийся в майском тепле народ устремился навстречу.
Каждый хотел увидеть диковинку раньше других.
К вечеру гости выехали на центральную площадь.
На невысокой тележке стояла большая клетка с золочеными прутьями, а рядом с тележкой, подталкивая ее, шагал высокий бородатый мужчина с тяжелым вещевым пешком за спиной. В левой руке он зажимал суковатую палку и, опираясь на нее, гулко стучал по мостовой.
В клетке сидела молодая женщина. Беременная, но не утратившая своей красоты.
Она улыбалась и радостно глядела по сторонам, словно приветливо узнавая давно покинутые места. Над клеткой витиевато красовалась надпись: «ЛЕТИЦА! Только у нас!».
У ограды парка они остановились. Вокруг мигом собрался народ.
— Переночуем здесь, а завтра двинемся дальше, — предложил мужчина.
— Нет, — возразила Летица, — передохнем тут немного, а переночуем за городом. Здесь душно.
— Как тебе лучше, — согласился мужчина и с нежностью взглянул на подругу. Потом, повернувшись к зрителям, раскатисто крикнул: — Чудо природы! Где еще увидите такую Летицу?! Только у меня! Подходите, платите и смотрите!
— А почему она — Летица? — удивились в толпе. — Что это такое?
Мужчина пожал плечами:
— А бог ее знает. Летица она — и точка. Сама так назвалась. Короче, чудо из чудес!
Поздно вечером, когда совсем уже стемнело, зажгли фонари и толпа разошлась, к клетке приблизился невысокий, щегольски одетый мужчина.
— По-моему, я где-то вас видел, — обратился он к хозяину клетки.
— Возможно, — согласился тот.
— Да нет, я вас определенно знаю! Только не пойму, откуда?..
Они вгляделись друг в друга, и тут бородач понимающе положил гостю руку на плечо.
— Вы возили меня в клетке, — сказал он. — Помните такого — Зимаря?
— А ведь правда! — обрадовался мужчина. — Какая встреча! Это ваша жена?
— Сейчас это — Летица, — сухо поправил его Зимарь. — И только. Чудо природы.
— Понимаю, понимаю, — закивал мужчина. — Стало быть… и вы — туда же?
— Надо ведь на что-то жить. Простаков везде много.
— А зимой, выходит, поменяетесь местами? — засмеялся мужчина.
— Посмотрим, — неопределенно качнул головою Зимарь. — Об этом рано говорить. Еще май на дворе…
— А знаете, — вдруг сказал мужчина, — у меня к вам деловое предложение.
— Серьезно? — прищурился Зимарь.
— Абсолютно. Я, как вам известно, слов на ветер не бросаю. Давайте сделаем так: вы оба сядете в клетку, а я буду возить вас и показывать. Что вам мыкаться по очереди? Да и Летица… как я вижу, в положении. А так — задаром еда, питье, одежда… Чем плохо? А?
С минуту Зимарь размышлял. Потом он вопросительно взглянул на Летицу.
Та ответила ему ясной безмятежной улыбкой.
— Нет, — сказал Зимарь. — Спасибо, но нам это не подойдет. Мы свободные люди. Счастливо оставаться.
Он легонько толкнул ногой тележку, и все сооружение, скрипнув колесами, медленно покатилось.
Он шел по пустынной улице, освещенной редкими фонарями и взошедшей оранжевой луной, шел уверенно и спокойно, навстречу лету, осени и милым его сердцу зимним стужам, шагал неторопливо, мерно постукивая об асфальт суковатой палкой.
А рядом, в клетке, плыла и улыбалась своим радостным мыслям Летица — его любящая подруга, нежная спутница на долгую жизнь.
И между ними, как звено, соединяющее концы цепи, таилось третье чудо, которому еще суждено было явиться на этот удивительный свет.
Александр Силецкий
Тот день, когда растаяли цветы
Я сидел один во всем Доме. Холодные комнаты, будто галерея склепов, молчали, готовые в любой момент наполниться трескучим эхом, и я сидел, не шевелясь, страшась невольных отзвуков моих движений, слов и — кто знает? — может, даже мыслей.
Камин погас, погас давно и не давал тепла. Дрова сгорели, угли перестали тлеть, безумный хоровод трепещущих огней остановился.
Мне было холодно, и я, укрывшись одеялом, сидел перед камином и слушал тишину, и пальцы с жадностью хватали карандаш, чтоб занести слова, рожденные в мозгу, на чистую бумагу.
Глупая затея: едва родившись, слова умирали; иные, правда, каплями срывались с кончика графита, но, не достигнув бумаги, отторгнутые холодными течениями, улетали прочь — целые их скопления, красочные, как мыльные пузыри, плыли по комнатам, однако, стоило коснуться их, они мгновенно лопались и исчезали навсегда.
Сколько можно гоняться за словесными шарами, чтобы закрепить их на бумаге?!
Ведь в Доме вечный полумрак, и двигаться приходится почти на ощупь — много ли пользы от беготни?
Конечно, это как-то согревает, но шишек, синяков потом — увольте, я не любитель острых ощущений…
Наконец я встал, замерзнув окончательно, и тут подумал, что, может, и слова в итоге сделались от холода столь ломкими и скользкими — пожалуй, надо растопить камин, решил я, надо сделать так, чтобы огонь плясал до потолка — тогда слова согреются и приплывут сюда, на яркий свет, ко мне, и, разомлев, осядут сами на бумаге.
Однако в Доме не осталось ни единого полена.
Кто-то задолго до меня успел протопить камин, но тот человек ушел, я даже не знаю, кто он был такой, мне ясно только: грелся он, когда хотел, возможно, и не ради слов…
Я понял: нужно выйти — поискать снаружи.
В сущности, это не проблема — куда ни ступи, всюду лес, запорошенный снегом, а значит — тепло, которое можно всегда оживить.
Я накинул пальто и распахнул дверь.
Холодный воздух тугой волной ударил мне в лицо, ветер загудел, дверь хлопнула, и я шагнул в наметенный возле порога сугроб.
Я шел по лесу, белому и безжизненному, словно вырезанному, искусным мастером из бесчисленных кусочков плотного картона, и внимательно глядел по сторонам, выискивая сучья подходящего размера.
Я обернулся — старый Дом, как небо, серый и, как глыба изо льда, холодный, вычурно-аляповато рисовался меж ветвями…
Удивительное чувство овладело мною.
Словно это вовсе и не просто лес, не просто деревья, но некие вехи времени, и я иду, углубляясь в чащобу истории, где соединилось будущее с прошлым, и каждое дерево — это год, каждый ельник — десятилетие — все мимо, назад, и какая разница, куда шагать, — мое движение вперед здесь так наивно и условно…
И тут я заприметил озеро.
Оно было белое, как и все вокруг, и ветер не шумел в остекленевших тростинках, и волны не бились о берег — только посередине зияла черная полынья, будто глаз, нацеленный в небо в ожидании перемен, способных снизойти с высот…