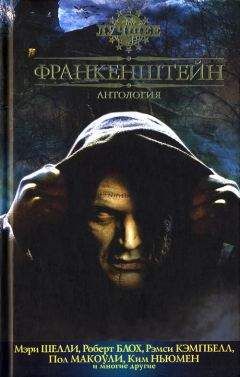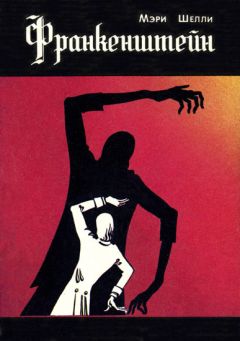Он не сумасшедший и, конечно же, не монстр.
Пока музыка гремела, Блэнк достал из-за стойки бара две небольшие пластиковые бутылки с керосином для лампы и щедро полил им старое дерево. Поджигатели называют такие легковоспламеняющиеся жидкости «катализатором».
Во всех сценариях неизменно присутствовала либо опрокинутая лампа, либо факел, брошенный из толпы сельчан, — и вспыхивал финальный очистительный пожар. Лаборатории безумных ученых, особняки и даже каменные крепости горели и изрывались, уничтожая опасных монстров, но только до той поры, пока в них вновь не появлялась надобность.
Темные нити змеями скользнули сквозь крошечную косичку на затылке Блэнка Фрэнка. Все эти «слепые отшельники»…
Темно-красная электрическая дуга потянулась к его пальцу и мягко прошла сквозь него. Он осторожно выдернул из розетки шнур плазменной лампы, обхватил ее своей громадной рукой и прижал к себе. Постер с разбитым стеклом он оставил висеть на стене.
Чиркнул спичкой о ноготь большого пальца. Пламя с шипением поглотило зеленовато-желтую головку. «Нежить» сотрясли басы D. О. А.[55] Острый запах фосфора разорвал плотность спертого воздуха. Спичка горела ровным голубым пламенем в оранжево-желтом ореоле. Пламя трепетало в больших черных зрачках Блэнка Фрэнка. И, словно в колышущемся свете свечи, он смотрел на свое отражение в разбитом стекле постера, осколками рассеченное на сегменты. Его прошлое. У него в руках плазменный шар — девственно-чистый, ждущий новой зарядки. Его будущее.
Он вспомнил весь свой прошлый опыт общения с огнем. Бросил спичку в лужицу «катализатора», поблескивавшую на поверхности барной стойки. Пламя растеклось.
«Хорошо».
Блэнк Фрэнк направился к выходу, за спиной вспыхнуло белое зарево. Он закрыл за собой дверь. Ночь была прохладной и влажно-туманной. Плазменный шар запотел, он заметил это, когда остановился под фонарем, чтобы получше рассмотреть кольцо на мизинце. Он не нуждался ни во сне, ни в пище. Он будет скучать по Мишель, ну и вообще по народу, собиравшемуся в «Нежити». Но он не похож на них. У него впереди бесконечность и друзья, которые будут с ним вечно.
Блэнк Фрэнк любил мощь энергии.
Хотя Брайана Муни нельзя назвать плодовитым писателем, он опубликовал немало произведений начиная с 1971 года, когда в сборнике «Лондонская мистика. Избранное» («London Mystery Selection») вышел его первый рассказ «Арабская бутыль» («The Arabian Bottle»). Работы Муни печатались в таких журналах и антологиях, как «Книга ужасов от „Pan“. Двадцать первый выпуск» («The 21st Pan Book of Horror Stories»), «Темные голоса 5» («Dark Voices 5»), «Антология фэнтези и сверхъестественного» («The Anthology of Fantasy & the Supernatural»), «Оборотни» («The Mammoth Book of Werewolves»), «Тени над Иннсмутом» («Shadows Over Innsmouth»), «Fantasy Tales», «Последние тени» («Final Shadows»), «Кадат» («Kadath»), «Темные горизонты» («Dark Horizons») и «Фиеста» («Fiesta»).
«„Чандира“ принадлежит к тем счастливым произведениям, которые возникают в голове целиком, от начала и до конца, словно уже написанные, — говорит автор. — Отправной точкой для этого рассказа послужили две идеи: то, что большинство созданий, подобных Франкенштейну, внушает скорее жалость, нежели страх, и то, что многие фильмы ужасов, которые мне довелось видеть, завершаются огнем.
Тогда я вспомнил о сати, обычае, который вполне приемлем для индусов, но решительно отторгается европейским сознанием. Затем я увидел обстоятельства, при которых сати стал бы приемлем и для европейца. Мой герой непременно должен был быть европейцем, чтобы воспринимать сати как чуждое явление, кроме того, он должен был обладать некой властью и к тому же быть достаточно молод и независим, чтобы не закоснеть в навязанной ему роли. Отсюда взялся молодой окружной чиновник во времена британского правления, который родился в Индии, а потому куда лучше понимает ее культуру…»
Я теперь старик и с каждым днем все чаще думаю о смерти. Я думаю о смерти, а затем вспоминаю некоторые события, случившиеся в конце прошлого столетия… и тогда мне становится страшно. Я старик, промозглый зимний холод гложет мои кости и терзает суставы, и я проклинаю отвратительный климат моей так называемой родины. Вечера даже в более теплое время года я провожу возле камина и потягиваю из стакана превосходный виски. И порой жар огня и вкус виски отгоняют от меня страх смерти.
Однако не всегда же мне доводилось так зябнуть. Львиную долю жизни, за вычетом времени ученья, я провел под знойным солнцем Индии — солнцем, которое дубило мою кожу и разжижало кровь. И опять-таки не всегда я страшился смерти. Это началось, когда мне сравнялось двадцать.
Родился я неподалеку от Пуны, где мой отец служил окружным чиновником, и уже в детские годы бегло говорил на маратхи и гуджарати,[56] а впоследствии к этим языкам прибавились и другие. Стоит ли удивляться тому, что, возмужав, я счел естественным для себя поступить на службу в колониальную администрацию? Воистину Индия гораздо больше была мне родным домом, нежели угрюмые торфяные болота моих пращуров, и возвращение на Индостан в качестве мелкого — в высшей степени мелкого — чиновника принесло мне величайшую радость.
В те дни, давно ушедшие в прошлое дни британского правления в Индии, почти обычаем было отправлять юнцов, подобных мне, во всевозможные отдаленные местности. Таким образом испытывалось наше рвение, так проверялось, годны ли мы для службы и для грядущих, быть может, повышений. Я частенько посмеивался, слыша, как сетуют на свою долю младшие офицеры британской армии. Большинству из них приходилось беспокоиться лишь о том, чтобы разжиться приличной лошадкой для очередной охоты с пиками на кабанов или подыскать себе партнершу для полкового бала, либо же, наконец, о том, как удержать в подчинении своих грубых и неотесанных солдат. Я же в свои двадцать лет был ревизором, попечителем, советником, сборщиком налогов, администратором, судьей, посредником и непререкаемым авторитетом — словом, один во многих лицах.
В нынешние дни я порой — все реже и реже — отправляюсь в город, чтобы провести денек-другой в своем клубе. Мои приятели по клубу иногда не прочь послушать рассказ-другой об Индии, а юнцы добродушно подтрунивают надо мной, расспрашивая о фокусе с веревкой и тому подобных баснях.
Бог с ним, с этим фокусом, он и взаправду сущая басня. Мне доводилось видеть, как факиры проделывали действительно удивительные штуки, хотя то были скорее проявления физической выносливости, нежели сверхъестественных сил.
Однако же я и впрямь знавал одного риши,[57] что был во сто крат могущественней этих дешевых фокусников. Именно воспоминания об этом человеке и пробуждают во мне страх, когда я думаю о смерти. То, на что он оказался способен, до такой степени впечатлило и ужаснуло меня, что я никогда прежде не рассказывал об этом ни единой живой душе, и главным образом потому, что был уверен: меня непременно сочтут сумасшедшим. Впрочем, теперь, когда после тех событий прошло шестьдесят с лишним лет, мне уже нет дела до того, что обо мне подумают.