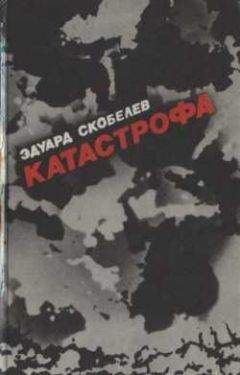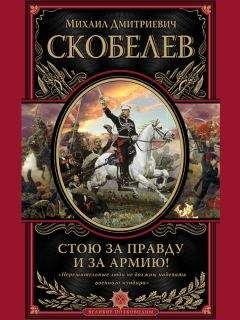Око-Омо усмехнулся. Чуть блеснули его глаза.
— Излишне торопитесь, мистер Фромм…
Мы помолчали. В доме огни почти всюду погасли. Будто музыка где-то звучала, временами зычно покрикивала горластая лягушка из мангровника за лагуной.
Послышался шорох. Не сговариваясь, Око-Омо и я обернулись на змеиный звук: перед нами стоял Ван Пин-ченг. Пришел ли он только что? Или прячась за стволами эквалиптов, подслушивал разговор?
— И вы тут, господа? Чтобы угомониться после такого дня, нужно крепко напиться. Нынешняя цивилизация и дня бы не протянула без хмельной одури.
— Кое-кто не протянул бы и часа, если бы все, протрезвев, решили не служить больше кубиками в чужих грязных руках и освободили бы свой разум для понимания истины, — отозвался Око-Омо. — Наши авторитарные режимы, поддаваясь вкрадчивым нашептываниям со стороны, но полагая себя вполне самостоятельными, бездумно разрушают подлинную культуру общества — среду нравственности. Здесь потерь больше, чем в природе. Тут свои киты кончают самоубийством, выбрасываясь на берег… Ничего уже не смысля в сути событий, потеряв все нити будущего, наши безумные демократы все более жаждут единомыслия. Нас так плотно укладывают один к одному, что никто не может перевернуться на другой бок, если не перевернутся все разом. И хотя мы блеем и мычим, как бы протестуя, мы и сами заражаемся тою же чумою недоверия и презрения к человеку: отвергшего стереотипы мышления считаем идиотом, проявлением дружеских чувств признаем лишь безоговорочную поддержку и выходим из себя, едва обнаруживаем несходство мнений. А культура требует, чтобы человек уважал несходство духовного мира, исходил из него в своей жизни, оберегал его как драгоценное приобретение природы. Несходство духовного мира — при единстве цели… Но мы бескультурны, мы утратили даже то, что некогда имели, мы всего лишь говорящие куклы… Кто превратил нас в кукол? Кто внедрил массовую ложь в наше сознание? Кто лишил нас воли бороться?
— Разве я спорю? — миролюбиво отозвался Ван Пин-ченг, пристраиваясь на земле подле скамейки. — Кругом все чаще сговариваются между собою за счет народов… Если вы спросите меня, лояльно выполняющего свой долг, я скажу: всем нам необходимо новое, космическое сознание. Какое было бы выше национальных амбиций, экономического эгоизма и бандитского сговора шаек. Ничего не отвергать — ничего. Все идеалы уже были. Возьмите древние книги, и вы убедитесь, что все новейшие мысли почерпнуты оттуда… Никто не имеет права переустраивать жизнь так, как ему заблагорассудится, если другие не согласны. А вот в воображении, тут уж каждый может быть кем угодно, хоть актером Мэй Лань-Фанем, хоть императором Ян-ди…
— Я не согласен с вами, — сказал Око-Омо. — Вы с заднего хода тащите то же самое. Твори в воображении, потребляй алкоголь и наркотики, а кто-то будет наяву дергать за веревочки…
— Я этого не говорил! — возразил малаец, поднявшись и отряхивая штаны. — Я говорил одно и готов повторить это под присягой: в реальной жизни равенство недостижимо, потому что человек не равен человеку, а в воображении все равны, стало быть, жизнь воображения и есть счастливая жизнь. Возможно, я в чем-то ошибся. Я устал и хочу спать…
Он ушел. Вот и дверь стукнула, но что-то зловещее осталось возле нас и между нами…
Пора было уходить, но уходить не хотелось. Звездное небо привораживало россыпями миров, о которых мы знали примерно столько же, сколько и наши далекие предки. Быть может, мы приблизились к истине, но степень приближения к ней была до того незначительной, что ею можно было пренебречь.
Я вновь ощутил усталость. Этот день и эта ночь сокрушили многие из моих надежд, но вместе с тем — странно — какой-то свет впереди забрезжил, вызывая беспокойство…
В просторном зале не было уже ни единого человека. Стол с закусками был захламлен окурками и бумажными салфетками, стулья опрокинуты, на полу валялся чей-то галстук. Люстра была потушена, горело лишь несколько электрических свеч вдоль стен, отражаясь в черном зеркале напротив.
Я уже взялся за перила, чтобы подняться в отведенную мне комнату, когда послышались медленные, шаркающие шаги.
Я с трудом узнал м-ра Верлядски. Без брюк, в майке, он продвигался вперед, вытянув руки. Во всем облике его на тонких кривых ногах было что-то от ощипанного бройлерного цыпленка.
— Кто там? — хрипло позвал он.
— Это я, Фромм, ваш покорный слуга.
— Помогите же мне, — плаксиво заговорил Верлядски, дергая шеей и глядя куда-то мимо. — Эти обезьяны не понимают, что такое благородство. У меня упали очки. Вахина сбила их подушкой. Понимаете? Я не мог унизиться до того, чтобы руками обшаривать весь пол, а она ни бельмеса не понимает… Проводите меня, бога ради, в туалет, тут где-то должен быть туалет, я хочу освежить лицо…
Я взял его за локоть. «И потом это пиво, — говорил Верлядски, пожимая худыми плечами. — Сплошные позывы, мучительные в нашем возрасте… Столько раз зарекался. В обычные дни я, разумеется, не пью пива. Знаете, у меня не те доходы, чтобы позволить себе такую роскошь…»
Я завел его в туалет и поставил там, где ему было необходимо. Он стал неловко плескаться, наклонившись над раковиной и проливая воду на кафельный пол. Прополоскал рот и цикнул струей себе под ноги. «Женщина в натуральном виде, — бормотал он, вперив размытый взгляд в зеркало, — это прекрасно. Но — никакого шарма, вы понимаете?..»
Верлядски потрогал пальцем поцарапанную переносицу и принялся растирать себя полотенцем, а потом я повел его обратно, и он то и дело скользил и спотыкался. Непрерывно болтая, что взбредет в голову, перескакивая с предмета на предмет. Я дотащил его до комнаты, но, поколебавшись, вошел в комнату вместе с ним. Включил свет, рассчитывая увидеть его подругу. Но, вероятно, она улизнула через окно.
Верлядски, которого вдруг прошиб озноб, с жадностью взялся за бутылку вина, припрятанную в ящик письменного стола, а я принялся искать его потерянные очки и нашел их не на полу, а в матовом рожке настенного светильника…
Пожелав м-ру Верлядски спокойной ночи, я поднялся на этаж. Дверь моей комнаты была приоткрыта. Там горел свет. В щель я увидел шефа полиции Атангу и, кажется, Шарлотту Мэлс…
На улице меня вновь встретил океанский ветер и тоскливый запах гнили, исходивший, очевидно, от земли, которую мы оскверняли. Разложившийся человек был приговорен к жизни среди свалки.
Безголовый силуэт Око-Омо чуть светлел на прежнем месте.
— Неужели кругом только продажность и скотство? — спросил я меланезийца. Вовсе не для того спросил, чтобы услышать ответ. А Око-Омо, блеснув влажным глазом, проговорил строки: