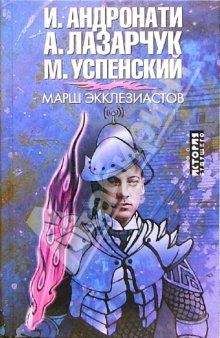Так вот: на этом столе их было шесть. Два я определил: на Северную Америку, скорее всего, на Провиденс, — и на Касабланку. Остальные вели непонятно куда.
Японец кончиком ножа показал на восточную часть круга и медленно-медленно, чтобы я понял, протянул: Ки-оо-то, Ки-оо-то…
Киото, задумался я.
В Японии было два рума: один действительно в Киото, вернее, в пригородном селении Оцу, другой — на Хоккайдо, рядом с горной деревней, название которой я забыл. Был наверняка ещё и третий, но из него невозможно было выйти, дверь не открывалась. Скорее всего, её завалило…
Киото — это примерно тридцать пятая параллель, а Марсель — сорок третья. Казалось бы, всё просто — на восток и самую малость на юг, — но геометрия пространства румов несколько сложнее. Как сказал отец, когда спускаешься в рум, земля становится плоской, бесконечной и слегка закрученной по часовой стрелке пологой спиралью. То есть, чтобы попасть отсюда в Киото, надо целиться значительно южнее — примерно на двадцать градусов, а чтобы сказать точнее, нужно сесть и посчитать на бумажке.
Но!
Вот именно что на восток и чуть-чуть на юг указывала тёмная стрелка, и рядом с нею угадывался значок: что-то вроде латинской L, к которой слева приставлены были три косых палочки (короткая вверху, длинная внизу) с завитками на концах, и лично я опознал бы в этом значке левую половинку разрезанной вдоль ёлки, а человек восточный — левую половинку пагоды.
Я вдруг понял, что у меня основательно плывёт в глазах. Казалось, всё вокруг наполняет перламутровый дым, и звучит что-то странное, неслышная музыка, нет, множество шёпотов, сливающихся в один…
Очень тяжело было думать и понимать. Решать — ещё тяжелее. Мозги обложило мягкой ватой.
Киото, думал я, Киото.
И — ёлка… ёлка… ёлка… ёлка…
В то же время каким-то уцелевшим, твёрдым, если можно так выразиться, кусочком мозга я понимал, что этот старый хрен беззастенчиво Ирку лапает и сопит при этом!
— Ки-о-то! — показал я на ёлку. — Альте кАпитэл.
— А-а! — завопил самурай. — Я-аа!
И взмахом ножа показал, что именно туда ему и надо.
Я, производя гипнотически-успокаивающие помавания руками, установил возле отметки игральную карту, поставил в центр стола дрожащую свечечку, потом медленно-медленно полез в карман за спичками. Японец сделал два крабьих шажка туда, где должна будет открыться дверь. Я спичкой показал на Ирочку; японец осклабился. Я понял, что он ждёт момента, когда появится проход в другой рум. В общем-то, он мог нас просто убить и сделать всё сам, но почему-то не убивал. Наверное, не хотел портить карму.
Похоже, мы с ним прекрасно понимали друг друга…
Перламутровый дым в свете масляной лампы, стелясь тонкими слоями, создавал там, куда не смотришь, странные неуловимые картины.
СТРАЖИ ИРЕМА
Макама последняяСперва Абу Талиб пошевелил языком и понял, что зубы его, выбитые кулаками стражников, вернулись на место, и жажда прошла, и пропала боль в рёбрах и суставах, и его спутник-ференги таинственным образом переменился, представ суровым воином Христа в чёрно-белом плаще, и они пошли в глубь заветного города, красоту которого не в силах были передать ни звонкая латынь, ни роскошный араби, и пламенные ифриты подлетали вплотную к ним, но не опаляли, а расступались в последний миг, а мудрые шейхи приветствовали пришельцев, усаживали с собой за трапезу и открывали перед Отцом Учащегося и бенедиктинцем все тайны мироздания и отвечали на все вопросы, и яства не отягощали желудков, и знания не отягощали мозгов, и прекрасные гурии развлекали гостей Ирема танцами и ласками, и невидимые музыканты услаждали их слух, и становились ведомы им и понятны все обобщения и все частности в мире нашем и в иных мирах, и продолжалось всё это десятки дней, а может, и сотни лет, а может — и тысячи веков.
И блуждали они под звёздами, размышляя и сожалея о непостижимом, и вышли однажды ко главным вратам Ирема, где толпился люд, глядя на представление. И не сразу заметили они некую странность. И гибкие юноши, строившие из тел своих башни и пирамиды, и нежные отроки, бросавшие друг другу огненные шары и цветы, и певцы, и поэты, и ряженые, и танцоры — все обращали дары свои словно бы стене, зрители же теснились за спинами их, довольствуясь крохами и подбирая объедки сего пиршества глаз. На стене высечен был во весь рост и во всю её немалую высоту, телом наполовину выступая из камня, человек, или великан, или вправду архангел, взметнувший над головою обломок пламенного меча. Сурово смотрел он на представлявших, смотрел, как кружатся дервиши, слушал, как шутят жонглёры, следил, как звенят мечи в поединках. И каменные глаза его заблестели, каменные губы осветились улыбкой. Радостно завопила толпа, люди кланялись и расходились, поздравляя друг друга и хлопая ладонями по плечам, и вскорости брат Маркольфо и Абу Талиб остались на площади одни, зачарованно глядя, как опускается на лицо каменного великана печаль веков.
Потом оба спутника поняли, что подлинная цель их странствия, главное чудо Ирема Многоколонного, всё ещё таится от них в глубине города, и дойти до него, сокрытого, не менее сложно, чем дойти до самого Ирема, и что понадобятся для этого им все новообретённые знания, потому что прежние знания бесполезны, и начали они разбираться в расположении колонн, в чередовании помещений и в направлениях коридоров, и в сочетаниях знаков, начертанных на стенах и колоннах на ставших понятными умерших языках, и они перестали нуждаться и в науках, и в советах, и в питье, и в пище, и в гуриях, и догадались они, что достичь главного чуда, на котором и держится Ирем, может всё-таки только один избранный.
Наконец, когда встали они на пороге, отделяющем поместилище главного чуда от остального Ирема, Абу Талиб выхватил из-за пояса свою кривую джамбию и вонзил её в грудь брата Маркольфо.
Бенедиктинец не закричал, не исказился лицом, а рассмеялся:
— Бедный мой поэт! Да ведь и в твоём теле уже действует смертельный яд! Неужели бы я допустил, чтобы враг истинной веры достиг своей преступной цели, неужели предал бы я своего Наставника?
Отвечал ему Абу Талиб, чьи конечности уже начали неметь:
— Не зря ненавидел я всю жизнь отравителей, недаром запомнил все советы моего Наставника, не допущу я неверного к сокрытому сокровищу, пусть и ценой жизни!
И друзья обнялись, чувствуя, как жизнь покидает понемногу земные тела, и сказал монах из Абруццо: