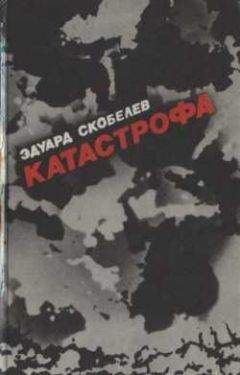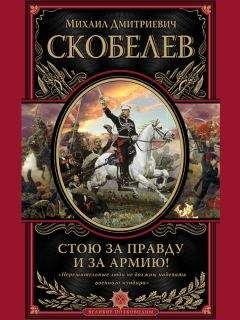Вслед за тем последовали вещи необъяснимые. Еще накануне о просьбе японцев сообщила газета. Сегодня она извинилась, что поместила непроверенный материал. И японцы отрицают, что обращались к Такибае. Что произошло? Кто зажал уже раскрывшиеся для перебранки рты?
Я был бы не против, если бы черномазые подняли восстание и устроили резню. Революция, пожалуй, дала бы стимул моему творчеству. Я бы запечатлел местных Маратов и тьеров…
Ни Кордова, ни капитан Грей не пожали нам рук на прощанье. Они, конечно, сожалели, что взяли нас на борт, — после той кошмарной ночи…
Первое, что мы сделали, сойдя на берег, — зашли в ресторан. За бутылкой вина подвели первые итоги путешествия.
— Что-то вообще случилось, — предположил Игнасио, осматриваясь, — в это время здесь полно посетителей. — Он выглянул в окно. — Или я плохо слышу? В порту не гудят подъемные краны…
И тут стеклянные бусы на бечевках раздвинулись с перестуком, — в ресторан вошел Верлядски. В полосатой майке и широкополой шляпе. Узнав, что мы ничего еще не слыхали о событиях в Куале, Верлядски распорядился прибавить к нашему счету бутылку вина и цыпленка и с наслаждением приступил к подробному рассказу…
В гостинице я наскоро принял душ и переменил рубашку. Я чего-то ожидал. Телефонный звонок от портье вызвал у меня сильное сердцебиение. Звонил Куина.
— Внизу ждет машина. Его превосходительство желает видеть вас…
Шел сильный дождь, не перебивая запаха магнолий и переувлажненной земли. Все тот же лэндровер протащился на малой скорости по улицам города.
— Поздравляю, — с подобострастием сказал Куина, — вы пользуетесь у адмирала большим кредитом…
Он не договорил, ожидая, что я отвечу. Но я промолчал, раскусив, что ему хочется знать о подоплеке моих отношений с Такибае. Откровенно говоря, я и сам не понимал, зачем я понадобился. Я не жаждал видеть Такибае: у меня были еще свежи воспоминания о встрече с Кордовой.
В гостиной, где мне велено было обождать, внезапно, как от пинка, распахнулась одна из дверей.
— Мистер Фромм, идите сюда!
Я последовал приглашению и оказался в просторной ванной с высоченными потолками — архитектура ушедших столетий.
Передо мной стоял мокрый Такибае. Расправив мохнатое полотенце, он принялся энергично обтираться.
Он не впервые сбивал меня с толку своими выходками. Конечно, это был его стиль. Но я не представлял, что можно было с успехом противопоставить этому стилю.
— Власть тоже знает свой маразм, — говорил адмирал, ерзая полотенцем по пояснице. — Жизнь убога. Что она может дать, кроме лени, постели и алкоголя? То, при помощи чего мы разлагаем людей, разлагает и нас.
— Мы живем в обществе и дышим одним воздухом со всеми… Если вы считаете полезным разлагать массу, то, может быть, кто-либо еще считает полезным разлагать первых лиц государства?
— Даже наверняка…
Он натянул шорты, поерзал, с трудом умещаясь в них, причесался, надел безрукавку. Застегивая пуговицы, повел меня в комнату рядом, прекрасную спальню с окном во всю стену, за которым сыпался перламутровый дождь и чуть проступали столетние эвкалипты.
На резной кровати спала на животе темнокожая женщина. Пурпурные простыни придавали ей живописный вид.
Адмирал похлопал женщину по спине.
— Какой изгиб, мистер Фромм! Черт возьми, мы никогда не успеваем насладиться мгновением. Оно уходит от нас, чем больше мы торопимся. И когда нам представляется, что мы летим вместе со временем, на самом деле мы вступаем в эпоху, которой уже нет в календаре…
Женщина повернулась, щуря глаза. Она была симпатична, эта молодая меланезийка, владевшая гибким, сильным телом.
У окна на низком столе поблескивали хрустальные бокалы, оправленные серебром, — изящество колонизаторской эпохи.
Такибае налил вина. Мы выпили.
— С женщинами я не придерживаюсь ни правил, ни привычек. «Любая теория препятствует наслаждению», — говорил Гёте. Я с ним согласен.
— Вы никогда не были женаты? — я старался не особенно уничижаться — догадывался, что адмирал презирает откровенных льстецов.
— Леонардо да Винчи был побочным сыном. Вот и я делаю побочных в надежде, что хоть один из них будет Леонардо, — отшутился Такибае. И повернулся к женщине, все еще с недоумением осматривавшейся вокруг: — Веселей, Луийя! Выйди под дождь, освежись!
— Под дождь не хочу, — по-английски сказала женщина. — От современных дождей, бывает, вылазят волосы.
— Бывает и хуже, — буркнул Такибае, между тем как женщина, легко соскочив на пол, босиком пошлепала на балкон. — На Бикини вновь испытаны ядерные заряды. Комбинированные, кассетные. Сложная программа… Вы никогда не видели Бикини?.. Ложь, что природа расцвела там еще пышнее, — яйцеголовые дурачат публику. Но мы-то, слава богу, знаем, что к чему… Она разбухла, природа, она стала рыхлой, как опухоль… Взрывы чудовищно меняют равновесие сил. И если один атолл, даже омертвев, получит новые семена и новые семьи пернатых, континент, который расплющат тысячи огненных молотов, никогда не вернется в прежнее состояние…
Такибае сел в кресло и вновь наполнил бокалы.
— Если разобраться, истина в голом виде безобразна, она отрицает нас самих. Напрасно мы тужимся доказывать при помощи ее такие химеры одинокого ума, как счастье или справедливость…
Такибае, несомненно, производил на собеседников сильное впечатление. Нестандартность его суждений вызывала ощущение правдоподобия или даже какой-то высшей правды. Он так ловко смешивал понятия, что уличить его в ошибке было почти невозможно.
— Если бы я как всякий диктатор нуждался только в прославлении собственной персоны, мне ничего не стоило бы нанять писак, какие быстро состряпали бы образ «отца нации». Но я хочу не славы, а бессмертия, странички, которая передала бы потомкам частицу моей души, не извращенной властью, частицу моего сердца, не оскопленного компромиссами. Может быть, сегодняшний день — единственный, когда я не притворяюсь… Диктаторы рождаются там, где человеку не дают высказаться. Мне слишком долго затыкали рот. И пришел день, когда я готов был скорее умереть, чем жить с завязанными глазами и с кляпом во рту. Поэтому я и победил. Побеждает тот, кто не страшится личных жертв…
Для меня мысль — образ живого чувства. Для кого-то, допускаю, пейзаж значит больше слов. Другой посчитает, что слова опошляют, и будет по-своему прав. Но лично для меня всего дороже мысль. Не важно, как и когда она возникла. В любом случае она несет слепок своего создателя. Мне довольно мысли, чтобы сказать о человеке больше, чем это сделает художник, не безразличный к мельчайшей бытовой детали. И дело тут не в портретном сходстве, а в существе натуры…