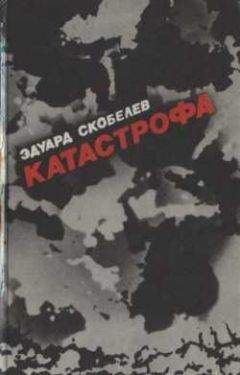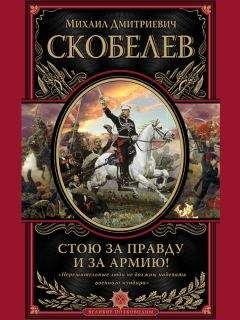Сэлмон, спохватившись, поздоровался с чернокожей вахиной и со мной.
— Если вы пришли говорить по делу, посол, говорите в присутствии этих людей, — сказал Такибае. — Я им, безусловно, доверяю. Политика, которая делается за закрытыми дверьми, — грязная политика.
Сэлмон поправил очки.
— Если бы на кухне не было вони, грязи и перебранки поваров, нам бы не подавали на стол изысканных блюд. — Он откашлялся и переменил тему разговора, показывая, что присутствие посторонних стесняет его. — Мадам, — обратился он к меланезийке, — такого роскошного туалета я не встречал в лучших магазинах 42-й стрит!
— А что такое 42-я стрит?
Сэлмон сверкнул золотыми резцами. Мне он сразу стал неприятен, этот жирный, самоуверенный тип: обычно резцы гниют у субъектов, много полагающих о себе. Так, по крайней мере, объяснил мне однажды венский специалист по зубным протезам доктор Маттер. Это был выдающийся врач.
— 42-я стрит — это Нью-Йорк!
— Когда я лазила по деревьям, — театрально жестикулируя, сказала меланезийка, — у меня был дружок по прозвищу Нью-порк…
— Не то же самое, хотя и похоже по звучанию, — нахмурился Такибае, прерывая возникшую паузу. — Я бы велел тебе извиниться, Луийя, если бы ты была сильнее в английском…
— Будем думать, что это не единственная слабость очаровательной женщины, — натянуто улыбнулся Сэлмон.
Заминая неловкость, Такибае предложил гостю коньяк.
— Все мы люди и к тому же говорим на одном языке, — сказал американец. — Выпьем за это!
«Кто такая Луийя? Кем доводится она Такибае?..» Я подумал, что в этой компании параноиков только она одна подлинно живой человек.
— Нет, мистер Сэлмон, — возразила Луийя. — Пока мы, к сожалению, говорим на разных языках. Я принимаю тост с тою поправкой, что я выпью за свою родину.
— Всемирное братство людей я ценю выше, чем родину, — сказал Сэлмон. — Если вынести за скобки чепуху, придуманную для сентиментальности, родина — место, где нам хорошо платят. Где нам приятно быть и наслаждаться.
— Рабы никогда не назовут родиной двор своего господина! Родина — это земля, за которую мы готовы умереть.
— Женщина права, — сказал я. — Только я лично предпочел бы умирать не за землю, а за надежды, которые я с нею связываю…
— Стало быть, — перебила Луийя, — если лишаются надежд, значит, лишаются и родины? Разновидность все того же торгашеского подхода!
— Солидарность людей превыше всего, — с нажимом повторил Сэлмон. — Все наши взгляды устарели. Родина — выдумка слабаков!..
Шумел дождь. Звенела и плюхала за окном вода из водосточной трубы. Сухо поклонившись, Луийя вышла из комнаты.
— Все люди — дети, — со вздохом заключил американец. — Дайте им игру, в которой они могут играть желанные роли, и они послушно пойдут за вами. Они примут любую условность, лишь бы игра воспринималась всеми всерьез.
— Политические деятели должны быть терпеливы, как пауки, — отозвался Такибае. — Каприз — максимум, что мы можем позволить себе, утешая самолюбие. Пользуясь вашим словарем, я бы сказал, что самолюбие — первая человеческая игрушка, покушаться на которую нельзя ни при каких обстоятельствах…
Такибае набивал себе цену — это было заметно. Кто-то мне рассказывал, что он вел с американцами довольно шумные переговоры о Пальмовых островах и упрямился до тех пор, пока ему не щелкнули по носу, намекнув, что откажутся иметь дело со строптивцем и предпочтут более покладистого политического деятеля. Я думаю, Такибае недолюбливал тех, кому по необходимости подчинялся. Как всякая марионетка, он тем больше напускал на себя величия, чем униженнее был.
Тенью возник и тенью пропал секретарь.
— Положение осложняется, — сказал Такибае, пробежав глазами переданную депешу.
— Оттого я и пришел к вам, — сказал Сэлмон. — Теперь нужно действовать как можно более решительно.
— Я послушался совета, но, кажется, допустил ошибку.
— Вы можете допустить ошибку, если промедлите с решительными действиями теперь…
Я встал с намерением откланяться. Мне не терпелось поскорее добраться до отеля и там обдумать все, что я услышал. «Отсюда нужно уезжать, — это я хорошо усвоил, — поскорее сматывать удочки…»
— Задержитесь, мистер Фромм, — остановил меня Такибае, — мы не окончили беседу. — И продолжал, обращаясь к Сэлмону и ко мне: — Семнадцать забастовщиков компании «Муреруа-фосфат» бежали на остров Вококо. Их воинственность подогревается домыслами местных жителей. Мятежники раздобыли оружие…
— Самое главное — не позволить этим элементам использовать стихию в своих целях, — сказал Сэлмон. — Вам известно, кто может встать во главе?
— Примерно.
— Вот список жителей Куале, которых необходимо изолировать в первую очередь, — Сэлмон протянул лист бумаги с двумя колонками фамилий, отпечатанных на машинке. — Кое-кто из них уже готовится перебраться на Вококо.
Такибае прочел список.
— Это невозможно, — поморщился он. — Неприятностей не оберешься, а эффект незначительный… Я прикажу немедля перекрыть пролив… Но сторожевое судно и катер — этого маловато.
— Вам за бесценок предлагали четыре патрульных судна, но вы отказались, — Сэлмон стрельнул в меня неприязненным взглядом.
— Отказался, потому что эксплуатация посудин окончательно подорвала бы наше финансовое положение. У нас нет никаких запасов нефти.
— А помощь?
— Помощь дается затем, чтобы получающий ее не выбрался из кабалы…
Теперь, когда мне легко обессмертить свое имя, я сознаю незначительность славы. Искусство умирает на моих руках: что можно выразить на плоскости теперь, когда проблемы выходят за все рамки? Даже кино, использующее звук и просторную цветовую гамму, тысячи кадров пленки, десятки художников и крупнейших актеров, не в состоянии передать суть нынешней жизни.
Чтобы отобразить наше время, нужно отказаться от традиции. Но чем ее заменить? Новой символикой? Масса не воспринимает иероглифическое письмо. Язык мысли в цвете ей не осилить, это каждый раз особый язык. Но все же, видимо, будущее за частностями, а не за обобщением.
Цивилизация теряет смысл, с тех пор как становится невозможной или ненужной великая слава!..
Жизнь трансформируется. В ней выживает все более гнусный обыватель. Творец в ней уже немыслим — дребедень псевдоподелок подавляет его. Кто ответит за это? Есть ли вообще сила, способная спросить?
Трусость вытесняет свободу. И может быть, сводит на нет достоинства жизни. Взять хотя бы брак. В нем отражаются все недостатки жизни — ложь, лицемерие, неравенство. Наши лучшие чувства не получают отзвука. Если даже начиналось любовью, любовь не может продолжаться, потому что не любовь, а вражда определяет все отношения. Единства нет и не может быть там, где человек благоденствует за счет другого человека, где удачливый негодяй и ловкая сволочь уважают себя как героев.