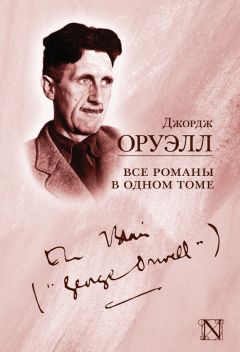– Честное слово, миссис Лакерстин! – Обнаружив кое-что касательно лейтенанта Веррэлла и внезапно исполнившись презрения к Флори, мадам весьма охотно внимала Эллису. – Честное слово, если бы вы слышали вчера все его речи, вас бы в дрожь бросило!
– О, неужели? Меня, знаете ли, постоянно шокировали его просто дикие идеи. Надеюсь, не социализм?
– Хуже.
Последовали жуткие подробности. К досаде Эллиса, сам Флори соскользнул с крючка. На следующий день после крушения всех надежд он уехал в свой лагерь. Зато Элизабет наслушалась о нем такого, что помогло ей окончательно увидеть, определить его натуру. Она наконец ясно поняла, чем же все время бесил ее здешний поклонник, умник той же породы, что все эти ленины, куки и монпарнасский сброд с их свинскими стишками. Умник с идейками еще грязней его туземных любовных шашней. Дня через три нарочный принес от него (до лагеря Флори был день пути) невнятное, высокопарное письмо. Она не ответила.
Флори очень повезло, что в лагере сразу навалилась куча забот. Без него все там развалилось: не хватало уже тридцати грузчиков, хворавший слон еле дышал, из-за заглохшей дрезины на десять дней задержалась отправка горой скопившихся тиковых бревен. Не большой спец насчет машин, Флори бился с мотором, пока весь не покрылся машинным маслом, получив от Ко Сла строгое замечание за недостойную белых «работу кули». Однако же дрезина начала все же пусть не бегать, но кое-как трюхать по рельсам. У слона обнаружились просто-напросто глисты. Что касается кули, то массовое дезертирство объяснялось изъятием опиума, который служил им в джунглях профилактикой лихорадки. Конфискацию нелегального опиума организовал, между прочим, хлопотливый У По Кин, не забывавший вредить Флори. Помог доктор: в ответ на письменную просьбу Флори он решился прислать нужную толику контрабандного наркотического средства, а также передал лекарство для слона с подробной инструкцией, благодаря чему был извлечен шестиметровый солитер. Трудился Флори по двенадцать часов в сутки, а вечерами, если не было работы, уходил в джунгли и бродил, бродил там, пока пот не застилал глаза и колени не покрывались ссадинами от колючек. Ночами бывало особенно невмоготу. Терзавшая горечь утраты, как свойственно душевной боли, оседала медленно, едва-едва.
Тем временем минуло несколько суток, однако Элизабет еще ни разу не удалось лицезреть лейтенанта Веррэлла с расстояния менее сотни ярдов. Все семейство Лакерстинов испытало чрезвычайное разочарование, напрасно прождав офицера вечером в день его прибытия. Зря заковавший себя в смокинг мистер Лакерстин разозлился не на шутку. Наутро миссис Лакерстин заставила супруга послать в дак-бунгало приглашение в клуб – никакой ответной реакции. Дни шли, Веррэлл все так же игнорировал местное общество и даже пренебрег регламентом официального визита к представителю комиссара. Как и правилом ограниченного срока проживания в стоявшей на другом конце городка станционной гостинице, которую он прочно занял. Европейцам предоставлялось лишь издали наблюдать его, галопирующего по плацу, где уже на второй день после появления благородного всадника полсотни сикхов из его отряда серпами выкосили обширную плешь для упражнений в поло. На соотечественников, проходивших по дороге краем плаца, лейтенант не обращал ни малейшего внимания. Эллис и Вестфилд были в бешенстве, даже мистер Макгрегор обронил, что поведение офицера «нелюбезно». Разумеется, прояви Веррэлл капельку благосклонности, каждый радостно кинулся бы угождать ему, но сейчас все (кроме двух дам) дружно его возненавидели. Эмоции относительно лиц знатного происхождения всегда полярны: если аристократ не избегает контактов с безродным племенем, его обожают за очаровательную простоту, если сторонится – гневно винят в жутком снобизме. Середины в подобных чувствах нет.
Веррэлл, младший сын пэра, был отнюдь не богат, но путем долгов и крайне редкой оплаты счетов умел обеспечить себя главнейшими в мире вещами – отличными лошадьми и великолепной экипировкой. Он начинал в Индии в Британском конном полку, из которого, ради менее крупных затрат и большей свободы для поло, перешел в ряды Индийской армии, откуда, ввиду невероятной суммы накопленных долгов, перекочевал в известную скромностью обихода Бирманскую военную полицию. Бирма, однако, оказалась гнусной – наихудшей для конного спорта – страной, так что теперь он подал рапорт о возвращении в гвардейский Британский полк (как офицеру особого статуса, ему всегда шли навстречу). Приехавший в Кьяктаду лишь на месяц, он не намеревался общаться со всякой захолустной шушерой – жалкой пешей мелюзгой.
То был, надо сказать, не единственный презираемый Веррэллом социальный разряд. Категории лиц, вызывавших его брезгливость, составили бы длинный список. Он презирал всех штатских Индии, исключая нескольких виртуозов поло, а также и всех здешних британских военных, кроме конногвардейцев. В индийских же частях им равно презирались и конница, и пехота. Правда, сейчас он сам служил в туземном полку, но исключительно по соображениям личного удобства. Аборигены совершенно не вызывали его интереса, а его урду состоял главным образом из ругательств и глаголов в третьем лице единственного числа. Своих сипаев он ценил не выше кули и частенько, шагая вдоль шеренги в сопровождении субадара[40], который нес его шашку, цедил сквозь зубы: «Боже, какие чушки подзаборные!» Однажды командование даже сделало ему выговор за чересчур откровенные отзывы о туземных армейских частях. Произошло это на смотре, где Веррэлл стоял в группе офицеров позади генерала. Подходил, маршируя, индийский пехотный батальон.
– Отличные стрелки! – произнес кто-то.
– Кошельков из карманов! – добавил Веррэлл своим звонким дерзким голосом.
Белокурый командир марширующих сипаев, побагровев, наклонился к генеральскому уху. От генерала, из штаба британского корпуса, последовало строгое, краткое, впрочем, внушение (без каких-либо, естественно, взысканий по службе). Дорогой всех его стоянок в Индии за Веррэллом тянулся шлейф бесконечных оскорблений, пренебрежительных нарушений устава и неоплаченных счетов. Магическая анкетная пометка «знатн. пр.» позволяла что угодно. Да и глаза отпрыска благородного семейства обладали силой, леденившей души кредиторов, полковых дам и даже полковников.
Взгляд этих бледно-голубых, чуть навыкате глаз приводил в замешательство. Холодно вперившись, он взвешивал и оценивал человека не долее пяти секунд. Люди приличные (кавалергарды либо мастера по части поло) могли рассчитывать на гордое, но достаточно вежливое обращение. Все прочие презирались глубоко и органично. Тут даже не имел особого значения имущественный статус – для этого аристократа, а в сущности, заурядного сноба, шушера оставалась шушерой. Конечно, выходцу из состоятельной среды бедность была противна ввиду мерзких привычек низменной голи, но столь же отвращало вульгарное барство. Тратя, пока, правда, лишь в цифрах неоплаченных счетов, огромные суммы на экипировку, сам лейтенант соблюдал режим строжайшего аскетизма. Жесткая норма спиртного и сигарет, узкая раскладушка (с шелковой пижамой), только холодные в любой сезон ванны и т. д. Все во имя спортивной формы и настоящей верховой выездки. Смысл жизни, ее божественную суть и вдохновение, составляли такие святые вещи, как стук копыт по плацу, кентавром несущее седло и пружинящая в руке клюшка для поло. Бирманские европейцы – дряблые, ленивые, развратные алкоголики – вызывали чувство почти физической гадливости. Что касается всяких там общественных обязанностей, такие «фигли-мигли» не стоило замечать. Женщин, этих назойливых сирен, вечно норовящих, отвлекая от поло, заманивать на партию в теннис или кокетливую воркотню за чашкой чая, лейтенант сторонился. Не то чтобы он вовсе не имел дела с женским полом, иногда все же приходилось уступать вскипавшим в молодой голове фантазиям (довольно, надо сказать, всеядным относительно выбора подруг), но скорое брезгливое пресыщение помогало легко и просто рвать путы любовных связей. И подобных оков за два года военной службы в Индии им было сброшено уже около дюжины.