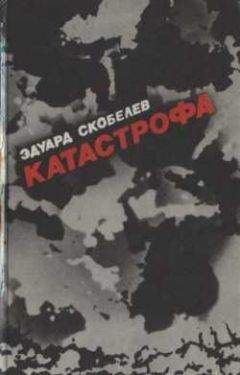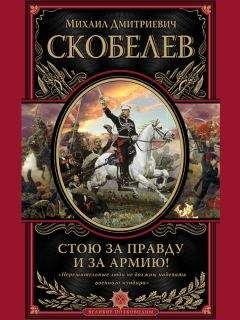Какой огонь согревал Око-Омо! Равнодушный к его прожектам, я не мог не завидовать его энтузиазму.
— Какой же язык вы изберете?
— Народ подскажет, — пожал плечами Око-Омо. — В людях меня отчаивает не глупость, не грубость даже, разновидность глупости. Отчаивает буржуазность мышления — непременный поиск личной выгоды. — Око-Омо смущенно достал из кармана измятый блокнот. — План нового учебника для начальных школ…
Здесь, ночью, в джунглях, это было, по крайней мере, забавно — читать о планах, возможно, вовсе неосуществимых: «острова, где мы живем; происхождение жизни; планета; жизнь народов; ценности жизни; обычай; нормы и правила поведения; образование и труд; общее добро и общая радость — основа морали…»
— По каждому разделу мы сделаем видовой фильм… Община может развиваться без бюрократии, не допуская чрезмерного дробления функций… Такибае поощряет национализм. Пропагандистски тут у него большие козыри: угнетенный народ должен воспрянуть от спячки и сложиться в нацию. Но в конкретных обстоятельствах это обман: если не уберечься от империализма, мы сложимся в сообщество ненавистников… Мы не будем идеализировать и прошлое, — покажем, как вожди племен и старейшины селений эксплуатировали народ, давая ссуды на покупку жен и заставляя потом годами их отрабатывать. Связки раковин и собачьих зубов мы повесим в музеях, и все будут видеть, во что буржуазность оценивала человека. Но, конечно, мы проследим также историю свободного духа народа, воздав должное Эготиаре, Палиау и всем другим…
Лишь к утру буря ослабла. Дождь не прекратился, зато ветер уже бессильно трепал деревья и скреб землю.
Око-Омо несколько раз совещался с посыльными, порывался уйти, но не уходил: хотел лично показать мне сожженную наемниками Укатеа…
До деревни было мили две. Но они дались тяжело, хотя мы шли самой удобной дорогой. В конце концов, обогнув покалеченную бурей кокосовую рощу и миновав вязкое поле, мы вышли на просторную поляну.
То, что я увидел, не потрясло меня. Ливень уже смыл приметы человеческих страданий. Торчали кое-где из земли лишь обгоревшие сваи.
Заглядывая мне в лицо, Око-Омо рассказывал, где что происходило. Вот здесь наемники убили колдуна, здесь пинали его голову, здесь отделили мужчин от женщин, а здесь женщин от детей. Там расстреляли сначала мужчин, а там женщин.
— Мы не смогли пока разыскать детей. Двадцать семь человек похоронили в общей могиле и только детских тел не нашли…
Пора было возвращаться в отряд Ратнера.
— У меня просьба, — с неожиданной мягкостью в голосе сказал Око-Омо. — Если увидите сестру, передайте привет. Пусть она побережет себя. И вы, вы знайте, что хозяева в Куале замышляют большую игру. Они просто так не оставят нас в покое…
Предчувствие беды усиливалось во мне, по мере того как мы продвигались вдоль подножия хребта Моту-Моту, — я и мой новый проводник, средних лет меланезиец с измученным лицом, понимавший только пиджин. К партизанам я шел в северном и северо-восточном направлениях. Возвращался же обратно, двигаясь строго на юг.
Попав в густой кустарник, мы долго не могли из него выбраться. Проводник сердился, если я отставал или не сразу повиновался его знакам. Я понимал причину его тревоги: кто мог сказать, куда за прошедшие сутки передвинулся противник?
Не встречая ни единого человека, мы вышли к банановой плантации у скрещения дорог западного побережья. Показалась лавка, щитовое сооружение с крышей из оранжевого пластмассового листа. В лавке был, конечно, и бар, где продавались напитки и кое-какая еда. Я показал жестом, что пора подкрепиться. Проводник нахмурился и повел меня к жилому дому, похожему на хижину, но со сплошными стенами и застекленными окнами. Залаяла собака, хозяин-малаец выбежал нам навстречу и заговорил о чем-то с проводником.
Они не успели обменяться и двумя фразами, как со стороны лавки появились наемники: их легко было узнать по оливковым курткам и брюкам, заправленным в высокие ботинки.
Партизан-меланезиец, пригнувшись, метнулся за дом. Наемники тотчас же растянулись цепью, держа наготове автоматы.
— Паскуда, клялся, что никого нет! — один из наемников ударил ногой малайца в живот. Тот молча упал на землю.
Ошеломленный, я хотел объясниться, добровольно позволив себя обыскать, для чего поднял руки, но удар коленом в пах повалил и меня. Свет померк в глазах, ужасная, нестерпимая боль пронзила скомканное тело. Я корчился на земле, задыхаясь. Казалось, что все кончено…
Когда я пришел в себя, я увидел, что наемники схватили и партизана. Он лежал, оскалив зубы, окровавленный, с распоротым животом, откуда, пузырясь, торчало что-то белесое. Мухи роились вокруг нас, лезли в глаза и рот, отвратительные мухи…
Мне и малайцу велели перетащить раненого к лавке. А потом нас троих заперли в пустой комнатке без окон.
В темноте партизан пришел в себя. Он умолял о глотке воды. Я не отвечал ему, сам испытывая жажду, а когда раненый забредил, хозяин лавки стал объяснять мне, что он лично ни в чем не виноват, что его ограбили только из-за того, что он трудолюбивый, кроткий и терпеливый человек, помогавший людям сводить концы с концами. Лавочник переживал за свою жену, твердя, что она не перенесет издевательств и покончит с собой, и тогда ему уже «не будет никакого смысла снова строить свой муравейник»…
Его болтовня раздражала, хотя я почти не прислушивался к ней: собственная судьба все больше беспокоила меня. Не выдержав, я стал звать старшего среди наемников. Мне не отвечали. Но я был уверен, что снаружи стоит часовой, и потому требовал, просил, умолял доложить обо мне капитану Ратнеру. Сорвав голос и обессилев, я поневоле умолк.
Нужно сказать, что лавочник посчитал мои крики истерикой перетрусившего человека и стал уже открыто приписывать вину за случившееся мне и меланезийцу.
— Ничего-ничего, — утешал он себя, беспрерывно вздыхая. — Бывали случаи, когда людям приходилось еще тяжелее, и все же судьба, в конце концов, меняла гнев на милость… Вот, например, Люй Мэнчжен, живший в эпоху Сун. Уж какой это был прилежный ученый! И женился на дочери знатного вельможи по любви. И все же пришлось ему уйти из дома вместе с беременной женой. Много невзгод изведал бедный Люй Мэнчжен. Однако перемог все несчастья и заслужил впоследствии высокую должность при дворе…
Из головы у меня не выходил партизан-меланезиец. В кромешной тьме я не видел его истерзанного тела, но я чуть ли не в обморок падал при мысли, что мне опять придется куда-либо тащить его…
Голос назойливого лавочника путал мысли.
— …Если нас станут морить голодом, я буду жевать свой ремень. Он кожаный. Надо на всякий случай всегда носить кожаный ремень. Между прочим, настоящее искусство еды исходит из того, что природа — лекарство, и потому съедобно все, что можно проглотить без вреда для желудка… Один из императоров династии Мин после дворцового переворота попал в темницу. Он был приговорен к вечному заточению, но не терял присутствия духа и сохранял надежду. Спал на сырой земле и довольствовался самой скудной пищей, какая ему перепадала…