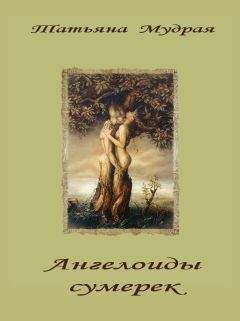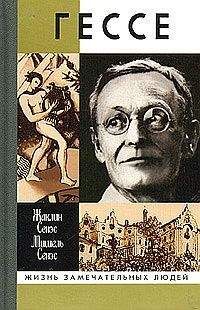А у меня был только один ребёнок – от Беттины. Сын, который с самого рождения от меня отдалился: возможно, оттого, что был зачат помимо (хотя вовсе не против) моей воли, рождён во время, когда я пребывал в дальнем странствии – физическом или духовном, не знаю. Бет и называла его вначале по-древнеримски. Постум: Волчонок, рожденный после смерти отца-зачинателя.
Или после гибели прежнего мира?
Потому что мир отдаляется от Сумеречников, несмотря на усилия пришвартовать его к месту. Возможно, последней, кто его удерживал, пока были силы и желание, была дама Асия с ее самоцветной магией. Ну да, хутора «человеков» по-прежнему процветают и заполнили собой Лес: разумный минимум гигиены и комфорта, разумный максимум природы, которая здесь повсюду. То, что смертные выращивают на своих участках, оплодотворяется лесными растениями, в прошлом «сорняками» и уж никак не становится от этого хуже. Те животные, которых они ласкают и приручают: собаки, волки, дикие и одичавшие коты, бобры и мохнатые лошадки, – почти так же разумны, а уж интуиция у звериков всегда была на недосягаемой для человека высоте.
У них и у нас возникла ещё и проблема детей. В своё время сумры поставили условием, что будут забирать человечьих малышей, подобных себе, в своеобразные интернаты и пансионаты – а таких деток теперь абсолютное большинство. Ну, вообще все, если признаться. Какие же родители выдержат разлуку с милым дитятей… и тот прискорбный факт, что сынок или доченька похожи на них только внешне. И то отдалённо. Оттого небольшие учебно-воспитательные заведения с самого начала строились в некотором отдалении от густонаселённых мест. (Канцеляризм, что я подцепил, в качестве заботливого папаши знакомясь с тамошними правилами.) Не в тех сёлах, что покрупнее и, исходя из их прозвища, снабжены церковью или иного рода храмом, но и не в заброшенных городах, чтобы не поддаться соблазну сгрудиться заново. И не на неприступных вершинах гор, чтобы предкам не пришлось спешно учиться альпинизму. Кстати, Постум-Вульфрин тоже бо́льшую часть времени резвится среди себе подобных, в их собственном анклаве, где старшие лишь вводят младших в курс дела и выпрямляют кривизну. Ибо самые непоправимые изъяны ума, психики и характера получаются не от поблажек, а от запретов и попыток скопировать в потомках любимого себя. Дети не должны быть похожи на своих родителей, какими бы крутыми шишками последние себя ни мыслили: иначе тормознёт и в конце концов остановится Великая История.
Города заброшены – значит, запустели? Нет, Москва, Питер, Лондон, Париж, Мадрид, Севилья, Бангкок, Пном-Пень и Барселона Гауди стоят нерушимо. Как и памятники архитектуры внутри и вне их стен. Музеи под открытым небом, под крышей которых уже иного рода кунсткамера: оригиналы почти всего того, чем по праву гордились наши предшественники.
Мы накачали во все это такую уйму энергии, что впору было и пожалеть. Ведь пресловутые «чешуйки» и «лепестки», адекватные копии всего культурного достояния, – сотворены очень хитроумно. В развернутом виде они повторяют оригинал с точностью до молекулы, даже до электрона, а вдобавок несут стандартный код, который позволяет безошибочно приткнуть частицу Цветка в ее законное место между предстоящим и заднестоящим членами.
Когда мы с Троицей Волков закончили наш труд по переводу разнородных текстов в однородный и запустили программу самосборки, над Политехническим Музеем и Кремлёвским озером, что подступило уже к самим его стенам, в эфир воспарил как бы гигантский, всё более распухающий одуванчик. Далеко не такой огромный, как можно было подумать со стороны: в конце концов, его крылатые семена состояли не из миниатюрных саморазвёртывающихся предметов, а из чего-то подобного старомодным флэшкам.
И двинулся вокруг планеты, как несгораемый спутник.
Кому мы обязаны этим поистине титаническим трудом?
Разумеется, полубогам и титанам. Прометею, Мафусаилу, Дзёмону и Седой Лисе. Они и подобные им застывшие мастодонты сторожили человечество, отводили от него те беды, какие могли, и заодно сохраняли самые лучшие из его творений, чтобы время от времени рассматривать: первые в мире «лепестки» и чешуйки. Тогда ещё довольно уязвимые…
Нет, эти старцы вовсе не были альтруистами: им просто надо было кормиться и дышать.
Сказать правду? Я завидую деревьям: они философы и эгоисты. У них нет того, что люди именуют эмоциями, они слегка презирают мысли и чувства быстроживущих тварей, однако все до единого одарены чувством меры и лада. Живые горы. Вокруг них закручивается и опадает время, как бы намотанное на незримое веретено. Люди дают им имена, но у каждого из них есть своё собственное – не запечатлённое ни в звуках, ни в привычных образах.
Раньше такие деревья занимали в жизни человека то место, которое позже оказалось захвачено храмами. Главная площадь любого поселения начиналась от их корней.
И к тому же все они по сути одно Мировое Древо. Древо Жизни – я вспоминаю эти слова всякий раз, когда отправляюсь в бывший Бахрейн и любуюсь на мескитовое дерево, свободно растущее посреди раскалённого песка. Здесь никогда не было воды: должно быть, оно достаёт ее для одного себя с неких непостижимых глубин. Дерево утерянного рая. Как та миниатюрная акация Тенере, что качала для себя питьё с уровня, много более низкого, чем тот, где начинаются грунтовые воды, пока её не прикончил пьяный шофер. Как кровоточащее Древо Дракона с Тенерифа, чья родительница плодоносила в Саду Гесперид, а отец охранял их совместных детей, обвившись вокруг ствола. Как помнящее эпоху динозавров Тане-Махута, новозеландское каури, Первое Воплощение лесного бога Тане, затвердевшая смола которого подобна янтарю.
У подножия этого совокупного Древа свернулась клубком и опочила прежняя цивилизация.
Нет, право же, плакать об этом глупо. Города, оставленные людьми в полнейшем запустении, с высоты птичьего – и моего – полёта выглядят не более чем плесенью на головке перезревшего сыра. Чем кажутся людские промыслы – шахты и терриконы, карьеры, горные разработки, нефтяные вышки и платформы в океане, – я не хочу здесь говорить, чтобы не впасть в полнейшую непристойность. И не раздражить нежные ушки Абсаль…
Но деревья – они разрастались по всей планете. Многие из них, особенно Старейшие из Старших, гордо замыкались в себе, однако многие и принимали в себя избранных. Такие люди называли себя Пребывающими в Покое, и имя это органично переходило на их новую оболочку. Как они сами мне говорили, возникало новое психосоматическое единство (термин христианства), психика человека сплеталась с психикой его нового хозяина, принимая его опыт, тело же было только древесным. Однако возможности этой одухотворенной древесины превосходили человеческие и отчасти даже сумрские: чтение мыслей, которые излучает всё живое, умение воздействовать на более мелкие уровни жизни. Практически мгновенная связь друг с другом.