«Вы порадовали Нас. Мир душам вашим».
И, рассыпаясь в ослепительные сине-золотистые огоньки, угасал свисавший над ложей Всевышнего бисерный занавес.
Собрание повел Проницательный. Еще раз поздравив с успешной защитой Отчетов, он сказал, что остался для того, чтобы выполнить самую неприятную миссию.
— Сегодня, — возвысил он голос, — в присутствии Всевышнего состоялось судебное слушание по делу Исследователя Удостоенного Второй категории и обладателя двухярусного нимба — Пытливого… Его вина рассматривалась не в плоскости дисциплинарного Устава Школы, а с позиции Свода Законов ВКМ, так как суду немного раньше вас был известен исход слушания ваших Отчетов. Суд приговорил Пытливого к сорока годам высылки…
Зал ахнул. Всадник гарцевавший на белом коне победы на глазах у всех рухнул под жесткие копыта его.
— Сорок земных лет, — уточнил Верховный Координатор. — То есть на сто шестьдесят дней по ВКМ.
— Ну это куда ни шло, — облегченно вздохнул Ретивый.
— За инструкциями, осужденный Пытливый, — с металлом в голосе произнес Проницательный, — зайдете завтра. В двадцать один ноль ноль… Коллега Ментор, у вас есть еще что сказать слушателям?
Огорченный услышанным ректор покачал головой. Он до последней минуты верил, что самое большое Пытливого может ожидать, так это условное наказание.
— В таком случае, можете быть свободны, — объявил Вэкос и добавил:
— Желаю приятного отдыха.
— Пытля! — крикнул отец, стоявший в окружении старых друзей.
И расстояние в сорок три года Пытливый одолел в три прыжка. Мужчины обнялись. Озаренный, Верный и Кроткий, поочередно тиская его в объятиях, поздравляли с успехом и пеняли за легкомыслие.
— Ну скажи ты нам, шельмец, и мы бы для тебя выбили у Ментора три недели, — журил его Озаренный.
— Все! Все, ребята, — остановил их Строптивый. — Давайте говорить о хорошем… Кстати, Пытля, а что ты не представишь меня моей невестке?
Пытливый стремглав кинулся к поджидавшей его у выхода девушке и, что-то сказав ей, потянул за руку.
— Папа, это моя Камея… Камея — это мой папа.
— Красивая у меня невестка, не правда ли? — сказал он стоявшим рядом Мастерам и, взяв ее под руку, громко объявил:
— Камея, у меня новоселье. Пытливый этого еще не знает. Мне выделили здесь замок. Чаруша, жена моя, назвала его замком Навуходоносора. Был на Земле такой властелин…
— Так мама здесь?! — воскликнул Пытливый.
— И уже твои вещи перенесла в ваше новое гнездо, — заметил Верный.
— Вобщем, ко мне! На новоселье, — позвал Строптивый. — Проницательный, Ментор, я жду вас у себя…
… Они сидели до самого утра. Ведун, Багровый Бык, Сердитый Воин, Томный и прелестная земляночка Чаруша. Им было о чем говорить. И было что вспомнить. И рядом, обнявшись, сидели их дети. Камея и Пытливый.
Пытливый не дал долго спать родителям.
— Вставайте! Уже десять утра, — голосил он. — Едем на Поляну Божьей ауры. Там отдохнем лучше, чем в вашем Навуходоносоре.
Первый раз за все время Пытливый облетел терновый заслон. Но флаер все-таки не коснулся поляны. Он завис над самой травой… Пытливый даже мечтать не мог о таком дне. Отец, мать, Камея и он, здесь, на этом волшебном пятачке. Он смотрел на родителей и переводил взгляд на два стоящих в цвету гранатника. И невдомек им было, что эти кусты показывались ему в их образах. Он зажмурился и тихо попросил Камею ущипнуть его.
— Зачем? — удивилась она.
— А может, я сплю, — сказал он.
Водоем с хрустальным ключом, бьющим высоко в небо, привел всех в восторг. И он снял с них возбуждение минувшего дня, усталость ночи и сморил сном. А когда проснулись, они долго сидели над пропастью, в том месте, где стоял чудо-Кедр.
— Здесь — прекрасно. Волшебно, — сказала Чаруша и мечтательно глядя вдаль, добавила:
— Но как бы здесь хорошо не было, я все же хочу в наш домик на третьей Венечной.
— Я тоже по нему соскучился, — живо отозвался Пытливый. — Завтра же и полетим. Не станем откладывать.
— Правда? — расцвела Чаруша. — Ой, как хорошо.
Отец с сыном переглянулись. Камея повернула голову к темнеющей стене терновника. Они то хорошо знали, что для Пытливого «завтра» — не будет.
Солнце скатывалось за горизонт. Уходил в небытие такой прекрасный, такой неповторимый день. Они четверо еще смогут повторить свою встречу здесь. Но в день другой. Может похожий, но другой.
— Камея! — окликнула Чаруша. — Когда-то очень давно и в ином мире Ведун подарил мне платье и сказал, что дарит мне, любимой девушке, молодость…
— Было такое, — подтвердил Строптивый. — Ты еще от него отказывалась. А оно спасло тебе жизнь.
— Отказывалась, — согласилась она.
— Камея, я помню этот разговор, как сейчас, — сказал Строптивый. — «О, Ведун, говорила она, ты мне даришь молодость… А буду ли я счастлива?…»
— И я счастлива, родной мой, — сказала она.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
(Эпилог)
Царь Аттила умирал. По губам Великого варвара текла кровь. Он искусал их, чтобы не верещать жалким шакалом, получившим в бок стрелу. Чтобы воинство, никогда не видевшее в тяжелых глазах царя страха и не слышавшее от него стонов, не шепталось, что Великий Аттила — сын Железной скалы и Огня небесного — в последнем своем поединке со Смертью верещал, как простой смертный.
«Ах, увидеть бы ее, эту смерть. Да знать, чем берет она», — двигая каменными челюстями сетовал Аттила.
Но невидима она и неведомо ее оружие. Больше всего однако Великого воина гневило другое. Его, вождя вождей всех гуннов и Царя, поставившего на колени других царей, она не считала себе за ровню. Даже не снисходила до того, чтобы показаться перед ним во всей стати.
— Стыдится она своей наружности, — произносит он вслух. — Червячен и мерзок ее облик.
— Смерть — не воин, повелитель. Она — судьба, — наклонившись к нему с дымящейся чашей травного отвара говорит колдун Гунал.
— Судьба, — повторяет царь, прислушиваясь к себе, и после недолгого раздумья с горькой усмешкой замечает:
— Не везет мне на женщин.
— Этой женщине твоей завидует весь мир, повелитель.
— Она — моя, поэтому и завидуют. Чужая лучше собственной.
— Но твоя судьба царская.
— Тем более. Царственная стерва. Прелестная со стороны. Сварливая и своенравная в шатре.
Аттила скрипнул зубами. Отвар не действовал. Или действовал так, что только раздразнил его боль. Дернул за ус и озлобил. Освирипев, она кинула свою рысью лапу и когтями — по груди. Изнутри. Да по-живому. От безумной боли царь скорчился, повалился на бок, но мысль не упустил.
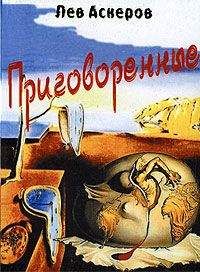
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)



