— Я у ней, у судьбы своей, в поводьях — выдавил он. — Несусь куда хочет она. А сейчас вот тянет в стойло. К мертвым. Я упираюсь, брыкаюсь, взвиваюсь… Но иду.
Аттила попросил колдуна крепкого макового настоя.
Мак успокоил озверевшую рысь. Одурманил. Она терзалась, но со сна. Вяло. Не так больно. Стало лучше. Несравненно лучше…
И пелена блаженной поволоки подернула стальные глаза Великого гунна…
… И простерлась перед ним родная степь. И над шелковым ковром ковыли плыло вязкое марево. И проступили сквозь нее силуэты шатров отчего стойбища. И от полыхающих рядом с ними кострищ тянуло свежей кровью, душистой полынью, жареным мясом и паленой шерстью. И, разливаясь, текли от них заунывные, сжимающие сердце песни.
И увидел он мальчика с большими раскосыми глазами. И на красном коне под синим месяцем преследовал он газель. И поравнявшись с ней, он, на полном скаку выхватив нож, прыгнул на изогнувшуюся спину антилопы. И пригнув к земле полумесяц ребристых рогов, мальчик полоснул ее лезвием по горлу. И брызнула в лицо ему горячая кровь. И припал он губами к клокотавшему солоноватому родничку. И долго стыл в красивых глазах антилопы ломкий свет надежды, плывущий высоко в небе синим полумесяцем.
И был тем мальчиком он — Аттила. И любил он кровь. И любил охоту. И любил походы. И дружил он тогда с чужими смертями. И любили они его. И с безумным сладострастием брал он их. И гордился собой. И упивался восторгом побед.
И поднялся вдруг ветер. И заметалась каленая пыль по кровной степи его предков. И поднялись дымы из кострищ. И шел он в черных клубах их. И пахло гарью. И пахло смертями и кровью… И расступились вдруг дымы. И увидел он сестру свою. И окликнул он ее. И она бросилась к нему. И он побежал к ней навстречу. И, с хрустом вонзившись в сухую землю, упали между ними оперенные огнем стрелы… И рыжие всполохи воспламененной травы бросили в него горящие снопы искр. И остановили его.
И увидел он двух коней. И черного. И белого. И привязана была к ним сестра его, мать его, и единственный родовой стебелек его. И звала она его — Великого Аттилу. И просила пощады у убийц своих. И жаждой неутоленной жизни, и кровью сердца клокотали слова ее. И ударили убийцы по крупам лошадей. И по белой. И по черной. И понеслись кони в разные стороны…
И горели раскосые глаза душегубов той же страстью, что некогда у того мальчика, припавшего губами к рассеченной гортани антилопы… И застыл в омертвевших глазах сестры, запавший в душу Аттилы, ломкий свет надежды, плывущий синим полумесяцем высоко в ночном небе. И донеслись до него слова сестры, что когда-то смывала с лица и рук его запекшуюся кровь газели.
«Аттила, тебе не жалко убивать? Ведь она была такая красивая. Ей так хотелось жить».
И услышал он ответ свой.
«Жалко. Но потом…»
И предстали перед взором его поля Побед его. И стаи жирных грачей, и скопище черных мух над трупами. И стоны раненых, и берущие за сердце вопли тех, кто находил в ослизлой крови остывшие тела родных своих.
И видел он обезумевшую женщину, смеющуюся над пятью обезображенными телами мужчин. И были то ее сыны и муж.
И мальчика он видел с непохожими на него глазами. И плакал он навзрыд, обнимая труп отца. И непохожие на него глаза с похожими муками и скорбью смотрели в небо. И просил тот мальчик вернуть его отца…
И у пепелища одного из очагов, спаленного его воинами, он видел живой скелет девочки, умирающей от голода. И проехал он мимо нее. И, не спросясь хозяина своего — сына Железной скалы и Огня небесного — его сердце подобрало глаза девочки. И были они также красивы, как и глаза у той газели. И была она деткой ее…
И были то поля побед его. И не стоили они и одной слезинки этого ребенка…
Варвар застонал и открыл глаза. В прыгающем свете факелов сидел колдун Гунал. Он спал и бормотал заклинания. Колдун устал. Который день он с ним и день, и ночь.
Аттила толкнул его и спросил:
— Почему, колдун, я проехал мимо девочки?
Гунал со сна ничего понять не мог. Да и что он мог ответить? Ведь тогда у Аттилы его не было. Царя Аттилу сопровождал другой Аттила. Тот, который со дня рождения жил в нем. И тот Аттила не был охотником. И не снедала его страсть к войнам. И равнодушен он был к бранным победам. И было у него другое сердце — мягкое, любящее, отзывчивое. И мыслил он по-другому. Он бы не проехал мимо заживо умирающего ребенка. А царь Аттила сделал это.
— Хороший сон привиделся тебе, повелитель, — невпопад смошенничал Гунал. — Девочка — это к диву. Тебя ждет чудесное исцеление.
Великий варвар ожег колдуна уничтожающим взглядом. Гунал съежился. Задрожал. Кто-кто, а он знал, что обычно следовало после такого хлыста. Всего лишь один жест. И все.
— Плут! — тихо произнес царь. — И мальчика я видел.
— А это — прибыль, Великий Аттила, — заюлил толкователь. — Большая добыча. Новая победа.
— Да будет тебе известно: то и другое — моя больная совесть, — обдав Гунала презрением сказал царь, а потом, проскрежетав зубами, добавил:
— Мошенник ты, а не чародей. У колдунов есть третий глаз. Он зрячий. Он видит то, что неподвластно и царям. А твой глаз — в бельме.
Отвернувшись от него Аттила смежил веки.
… Полыхнуло в груди. Кровь бросилась в голову. Но Аттила не оторвал губ от чаши, пока не осушил ее. И хотя напиток был студен и ломил зубы, жара в нем было поболее, чем в горниле кузнеца.
Пирующие смотрели на царя разинув рты. Мало кому из них за раз удавалось опустошить ту чашу. Захлебывались кашлем, обливались слезами. А он — одолел. Опрокинув ее кверху дном и с хрустом надкусив необычную для себя закуску — моченое яблоко, Аттила весело провозгласил:
— Этот напиток достоин моей победы!
И пошла чаша по кругу. Разговаривая со своими соратниками, Аттила цепко следил за ней. Каменный взгляд его, однако, с каждой минутой становился все теплей и теплей. По жилам побежали огненные струи, сделавшие его беспричинно веселым и глумливым. Когда, завершив круг, кравчий вновь поставил ему под руки наполненную чашу, Аттила осушил и ее. Больше он не пил, но настаивал, чтобы пили другие. Аттила сразу сообразил, что это огненное заморское вино — опасная штука. Чрезмерно расслабляет и делает человека не таким, какой он есть на самом деле.
Аттила поймал себя на том, что он из немногословного Великого Гунна превращается в бесшабашного говоруна. А его родственник, толстый Дагригилла, вызывавший в нем омерзение своими всегда засалеными губами, стал казаться ему славным парнем. Дагригилла приходился братом его жены. Она такая же жирная, тупая, да еше и безобразная. Это сестра заставила Аттилу жениться на ней, потому что она была дочерью вождя одного из могущественных родов их племени. Хотя Аттила происхождением был не ниже, но в богатстве и в многочисленности воинов их род уступал.
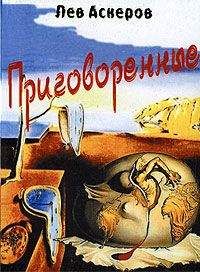
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)



