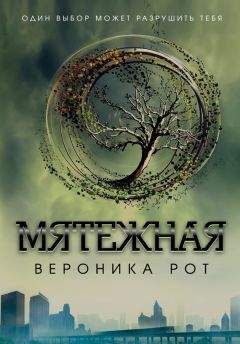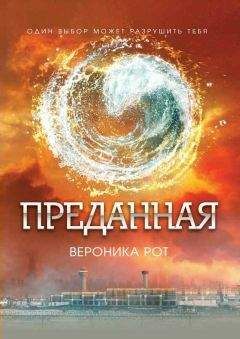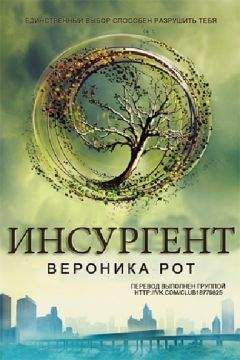Я смеюсь, безумно и безжалостно. Наслаждаюсь гримасой ее лица, ненавистью в ее глазах. Она – словно машина. Холодная, без эмоций, завернутая на логике. И я сокрушила ее.
Я сломала ее.
Оказавшись в коридоре, я перестаю рваться к Джанин. Болит бок, там, куда ударил Питер. Но это не идет ни в какое сравнение с радостью победы.
Питер отводит меня обратно в камеру, не проронив ни слова. Я долго стою посередине, глядя на объектив в верхнем левом углу. Кто следит за мной? Предатель-лихач, охраняя, или эрудит, изучая?
Когда жар спадает, а бок перестает болеть, я ложусь.
Как только я закрываю глаза, то вижу родителей. Когда мне было лет одиннадцать, я остановилась у дверей их комнаты и увидела, как они вместе заправляют постель. Отец улыбался матери, они натягивали простыни и разглаживали их, с идеальной синхронностью. По его взгляду я поняла, что он ставит ее выше себя.
Не было никакого эгоизма или бестактности в том, чтобы наслаждаться ее добротой, для него и для всех нас. Наверное, такая любовь возможна только в Альтруизме.
Мой отец, родившийся в Эрудиции, возмужавший в Альтруизме. Он часто испытывал трудности с соблюдением распорядка избранной им фракции, как и я. Но он старался, и безошибочно отличал истинную самоотверженность.
Я прижимаю к груди подушку и утыкаюсь в нее лицом. Я не плачу, просто страдаю.
Печаль не так тяжела, как вина, но она больше забирает тебя в себя.
– Сухарь.
Я мгновенно просыпаюсь. Мои руки все еще держат подушку. На матрасе, там, где лежало мое лицо, – мокрое пятно. Я сажусь, протирая глаза пальцами.
Брови Питера, которые обычно приподняты посередине, сейчас нахмурены.
– Что случилось?
Что бы там ни было, вряд ли хорошее.
– Твоя казнь назначена на завтра, на восемь утра.
– Казнь? Но она… еще не разработала подходящую симуляцию, наверное…
– Она сказала, что будет продолжать эксперименты на Тобиасе вместо тебя, – отвечает он.
– Ох, – только и могу сказать я.
Вцепляюсь в матрас и начинаю раскачиваться взад-вперед. Завтра моя жизнь окончится. Возможно, Тобиас проживет подольше и спасется, когда в бой пойдут бесфракционники. Лихачи выберут нового лидера. Все, что после меня останется, уладят с легкостью.
Я киваю. Родных нет, серьезных дел нет, невелика потеря.
– Я хотела бы простить тебя, знаешь, – говорю я. – За то, что ты пытался убить меня во время инициации. Наверное, надо тебя простить.
Некоторое время мы оба молчим. Я не знаю, зачем я так сказала. Может, потому, что сегодня последний вечер моей жизни и надо вести себя честно. Я буду правдивой, самоотверженной и храброй. Настоящий дивергент.
– Я тебя об этом и не просил, – он разворачивается. В дверях останавливается и оборачивается.
– Сейчас 9:24, – говорит он.
Сказать мне время – мелкое предательство своего долга. Храбрость, хотя не особо выдающаяся. Я впервые вижу, что Питер ведет себя, как настоящий лихач.
Я умру завтра. Прошло много времени с тех пор, когда я была хоть в чем-то уверена – так что это, в своем роде, благо. Сегодня вечером не случится ничего. Завтра я узнаю, что происходит, когда кончается жизнь. А Джанин так и не поймет, как управлять дивергентами.
Я начинаю плакать и просто прижимаю подушку к груди, не пытаясь сдерживаться. Я реву отчаянно, как маленький ребенок, пока лицо не становится горячим и я не чувствую тошноту. Я могу прикидываться храброй, но не хочу.
Сейчас самое время попросить прощения за все, что я когда-либо сделала, но уверена, список окажется неполным. Еще я не верю, что от того, насколько точно я зачитаю список своих прегрешений, зависит то, что будет со мной после смерти. Это слишком похоже на умозаключения эрудитов, точная логика, и никаких чувств. Я вообще не верю, что происходящее после смерти хоть как-то зависит от моих поступков в жизни.
Лучше я поступлю так, как учили в Альтруизме: забуду о себе и начну надеяться, что там – лучше, чем здесь и сейчас.
Я слегка улыбаюсь. Хотела бы я сказать моим родителям – я встречу смерть как настоящий альтруист. Наверное, они бы мной гордились.
На следующее утро я надеваю чистую одежду, которую мне предоставили. Черные штаны, слишком свободные, но какая разница? Облачаюсь в черную рубашку с длинным рукавом. Обуви не дали.
Еще не время. Я замечаю, что сплела пальцы и склонила голову. Иногда отец так делал утром, перед тем, как сесть за стол и завтракать, но я никогда не спрашивала его, зачем он так делает. Мне хочется снова почувствовать себя ближе к папе, прежде чем я… чем все закончится.
Проходят несколько секунд в молчании, и Питер говорит, что уже пора. Он почти не смотрит на меня, лишь мрачно глядит в стену. Видимо, видеть сегодня дружеское лицо – непозволительная роскошь. Я встаю, и мы идем по коридору.
Пальцы ног мерзнут. Ступни липнут к плиткам пола. Мы сворачиваем за угол, и я слышу приглушенные крики. Сначала я не могу разобрать слова, но вскоре мне становится слышно.
– Я хочу… ее!
Тобиас.
– Я… увидеть ее!
– Мне позволят поговорить с ним, в последний раз? – спрашиваю я.
Питер качает головой.
– Но тут есть окно. Может, он тебя увидит и наконец-то заткнется.
Он ведет меня по короткому, длиной метра два, коридору, заканчивающемуся тупиком с запертой дверью. Питер прав, там небольшое окошко сверху, сантиметрах в тридцати выше моей головы.
– Трис! – кричит Тобиас. Его голос слышен отчетливо. – Я хочу видеть ее!
Я протягиваю руку и прижимаю ладонь к стеклу. Крики прекращаются. Появляется его лицо. Глаза красные, лицо в синяках. Такое симпатичное. Он пару секунд смотрит на меня, а потом прижимает руку к стеклу, так, что она оказывается напротив моей. Кажется, я даже чувствую тепло.
Он прижимает лоб к стеклу и зажмуривает глаза.
Я убираю ладонь и отворачиваюсь прежде, чем он успеет открыть их. Чувствую боль в груди, хуже, чем когда меня ранили в плечо. Хватаюсь за ворот рубашки и иду обратно в коридор, к Питеру.
– Спасибо тебе, – шепчу я, хотя и хотела сказать погромче.
– Начхать, – Питер мрачен.
Я слышу другой шум, где-то впереди. Голоса толпы. В следующем коридоре полно предателей-лихачей, рослых и невысоких, молодых и старых, вооруженных и безоружных. Все они – с синей нашивкой на рукавах, знаком предательства.
– Эй! – кричит Питер. – Дорогу!
Ближайшие слышат его и расступаются, пропуская нас. Другие видят это и тоже прижимаются к стенам. Все замолкают. Питер пропускает меня вперед. Я знаю эту дорогу.
Внезапно один из них начинает стучать кулаками по стене, другие присоединяются, и я шагаю между шумными, но посерьезневшими лихачами-предателями. Мое сердце начинает биться быстрее, чтобы попасть в такт.