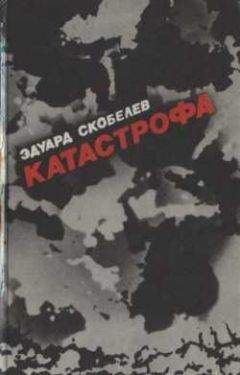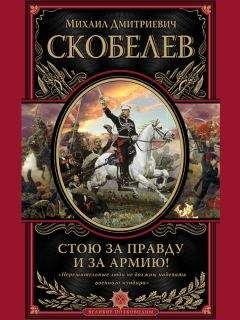«Глупость, глупость, какая глупость!» Я выскользнула из объятий Гортензии, одолев наваждение, и, разбитая, стуча костылями, заторопилась в спальню.
«Она не совсем еще здорова», — думала я о Гортензии. Да, собственно, разве был здоров Фромм? Или была здорова я сама? Все мы были больны, все были ненормальны, потому что случившееся было верхом ненормальности: мы отделились от мира, в котором должны были жить, мы потеряли связь с людьми, которые только и оправдывали наше существование, хотя мы полагали иначе, совсем иначе…
Сердце вон просилось — наступила неодолимая слабость. Я легла на кровать, осуждая себя за слабость.
Всякое эгоистическое чувство было преступлением. Я внушала себе, что эротизм — тоже преступление, и думала — одновременно! — что человеку от человека всегда нужно было совсем немногое, и это немногое было тяжелее всего получить…
Фромм забрался в командирскую рубку и вновь рыскал по эфиру. Сквозь открытую дверь слышалось бурчание и треск — эфир был огромной пустыней. Я бы сравнила его с кладбищем, если бы не передача, услышанная нами накануне…
Фромм возвратился, ни на кого не глядя. Молча лег и лежал без движения. И час, и другой.
Сон ко мне не шел, и я готова была поклясться, что не спит ни Фромм, ни Гортензия.
— Луийя, — вдруг сказал Фромм, — ты, конечно, кое-что слышала об Эготиаре?
«Имеет ли смысл теперь ворошить все это?..»
— Это мой прадед.
— Прочти что-нибудь. Что больше по душе…
«Мы все это забудем, все равно забудем… Зачем все это было, зачем?..»
Кому скажешь о слезах обиды?
Ведь завтра мир не перестроишь,
а послезавтра уж нас не будет…
Кому скажешь о самодовольных
и глупых,
о жестокости их беспредельной?..
Капают, капают слезы
внутрь сердца
ядом коварным…
Фромм молчал. Да это было бы глупо — комментировать. И все же — какая благодать, что я помнила строки!..
Гортензия, вздохнув, неожиданно вмешалась:
— Гений не смеет рассчитывать на признание современников. Их видение ограничено. В этом — драма гения.
Она что-то свое на уме держала, вряд ли стихи затронули ее душу.
— Мой покойный муж хотел написать картину — «Девушка, несущая солнечный свет»… Все пожимали плечами. Тогда мы жили в Испании, и он увлекался охотой на уток с сапсаном. Теперь я его понимаю. Человек, несущий солнечный свет, — реальность…
Ни я, ни Фромм не поддержали разговора. Но Гортензии как будто был вовсе излишен собеседник:
— Если бог есть, мы все равно живем по его провидению. Если его нет, мы в муках будем искать его до скончания дней. Сколько бы ни уверяли себя в верности безбожию, будем искать. Несовершенство заставит. Если есть всему смысл, стало быть, должно быть нечто, возвышающееся над всем и всеми…
«Что она за человек? — думала я о Гортензии, засыпая. — Она не примитивна, нет-нет, не примитивна. Будь она примитивна, она не обладала бы такой редкой способностью проникать в чужую душу…»
На следующий день все мы проснулись не в настроении. Фромм безосновательно накричал на меня. Я, конечно, простила ему, но все же обидно было, — я заплакала. Увидев слезы, Фромм дал мне пощечину. Гортензия попробовала успокоить Фромма, но он ударил по лицу и ее. Это исчерпало его силы, он забился в истерике, и Гортензия по моему совету сделала ему успокоительную инъекцию…
Три человека не могут поладить между собой, располагая всеми необходимыми для существования средствами, — как же могли поладить народы, которых разделяла и нищета, и обиды истории, и политические споры, и материальные интересы?.. Должны были поладить. Обязаны были поладить и люди, и народы. Да уж если не разум, весь эгоизм именно на это обратить было надо, чтобы поладить, а не погибнуть. Не видели связи. Труда боялись. Были слишком трусливы…
Новое будущее представилось мне внезапно непередаваемо мрачным. Зачем было жить вообще? Не знаю, чем завершился бы приступ отчаяния, если бы не Гортензия. Видимо, ей нужно было кого-то обожать, чтобы не спятить с ума. Я была благодарна ей, что она меня выбрала своим идолом, и не отвергала на этот раз ни ее поцелуи, ни признания в любви…
После ужина Фромм опять напился. Ни я, ни Гортензия не могли воспрепятствовать этому, поскольку он единолично распоряжался всеми запасами.
Тоску нагоняли бормотания, вздохи и причмокивания Фромма. Я не могла смотреть, как обстоятельно он чистит пальцем нос. Неожиданно загудели микрофоны. Бодрый голос сказал: «Внимание, внимание! Друзья, находящиеся в убежище, прослушайте важное сообщение!..»
Наемный осел, старательно записавший свою реплику на пленку еще до катастрофы и не подозревавший, конечно, о том, что и этим своим действием он приближает общую, и прежде всего свою собственную, смерть, называл нас «друзьями». Вот так примитивно «оттуда» они представляли нашу психологию «тут».
— Сволочи! — вне себя закричал Фромм. — Чего они вмешиваются? Чего они хотят, эти ублюдки?..
Робот сообщил, что истекло двадцать дней со времени включения систем убежища. Все эти дни, оказывается, в убежище могли беспрепятственно войти еще и владельцы ключей номер один и номер два; раньше об этом умалчивалось «во избежание излишних тревог». Поскольку обозначенный срок истек, робот предписывал еще десять дней нести вооруженное дежурство у люка, ожидая «лиц, имевших преимущественное право», после чего разрешалось разблокировать специальное устройство и запереться изнутри. Робот предупредил, чтобы «нынешнее главное лицо» во избежание недоразумений не нарушало этого указания и не пыталось ставить на люк свои запоры…
Больше всего меня поразило, что со дня атомного взрыва прошло уже около месяца. Казалось, несчастье произошло три-четыре дня назад. Или, может быть, точнее, уже год назад…
Что-то было не так. Время зловещие шутки шутило…
Фромма потрясло совершенно другое.
— Подонки! Я думал, что попал в убежище как полноправный человек! Мне позволили зарегистрироваться, вручили полномочия. И оказывается, двадцать дней я жил под угрозой гибели и не имею никаких прав! Достаточно было объявиться владельцам двух первых ключей, и они решили бы наши судьбы! Они пустили бы нас на колбасу!.. Мы не знаем, какие еще сюрпризы запрятаны в этом гнусном склепе… Даже теперь мы подвергаемся контролю и запугиванию — сколько это будет продолжаться?..
Гортензия пыталась успокоить его. Но ее слова только усилили гнев.
— Истину нельзя растащить по карманам! Она едина, она принадлежит всем сразу, и никто не вправе владеть ею единолично!.. Разве мог спастись мир, построенный на подлости? Что, кроме силы и собственности, признавал он? Сколько было криков о свободе и правах личности! Но все сводилось к нумерации ключей — бандиты навязывали нам свою иерархию!