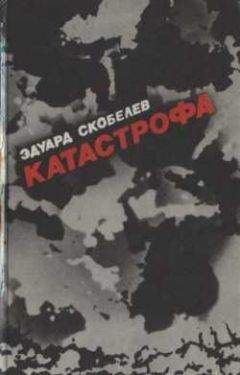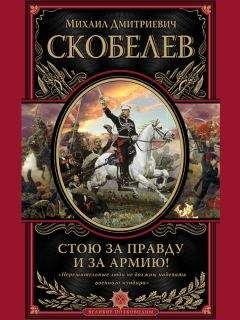— В целом мире сейчас нет никого, кто был бы мне ближе и роднее!..
Он был смешон, что-то было в нем от ребенка. Но ребенка не наивного и доброго, а желчного и злого, когда-то больно обиженного кем-то и не простившего обиды всем людям.
— Как я устал, Луийя, как устал!..
Он жаловался, и — я жалела его. Знала, что он вряд ли переменится ко мне и другим, и все-таки жалела…
— Я хочу, чтобы мы были рядом, всегда рядом!
Он явно смелел…
— О господи! Неужели вы не сообразили, что я, калека, не могу принадлежать вам?
— Чепуха, Луийя! К моему чувству нельзя прибавить. Я люблю, люблю!..
И чмокнув меня в щеку, Фромм ушел.
А через полчаса, когда должна была уже заступить на смену Гортензия, я взяла костыли и пошла напомнить ей о дежурстве.
Приоткрыв дверь, я увидела, что она спит. И подле нее похрапывает Фромм.
Я вернулась в кресло. Слезы душили меня. Нет, то, что я испытывала, не было личной обидой. Это общее горе было — то, что слова не затрагивают душу. «Если человек бесчестен, если не терпит никаких обязательств, может ли выжить человечество?..»
Соединилось все в одно — и то, как я спасала Фромма и как уберегла от остракизма Гортензию, и вся необозримая катастрофа, и гибель брата, и моя собственная беспомощность… Все соединилось в одно и комом стало в горле. Отчаяние победило, быть может, самое сильное за всю мою жизнь. Руки нащупали автомат, я решила пойти и убить этих необязательных людишек… Но я сидела и не двигалась, понимая, что расправа не принесет ни облегчения мне, ни справедливости другим. И тогда я подумала, что нужно застрелиться…
Все мы должны земле, на которой живем, и долг перед всеми — первейший долг человека.
В бесконечной веренице должников я не самый последний: я всегда осознавал долг, хотя не всегда следовал ему. Луийя права, я слишком искалечен буржуазностью, не мне встать над нею. Но почему не мне? Да, я бывал подлым. Но отныне не буду, не буду!..
Так уже я устроен — не могу вдохновляться в одиночку. Если я пишу, рядом должен быть кто-то, готовый безоговорочно принять написанное. Я бы и на баррикады пошел, если бы люди с восторгом провожали меня. И что в этом плохого? Или не для людей наши подвиги?..
Луийя мне не только укор, но и поддержка! Но и надежда! Пример самоотверженности и чистоты… Раздавлена ступня, нога не заживает, но Луийя даже не хнычет.
Конечно, Луийя уступает по красоте броской Гортензии. Но я готов спорить: и Зевс не знал более совершенной женщины! К изяществу форм в их меланезийском своеобразии, может быть, подчеркивающим внешний эротизм, добавился глубокий ум, — я редко встречал подобный ум среди дрессированных интеллектуалок Вены и Парижа. Даже к радикализму Луийи нельзя не отнестись с уважением: он порожден опытом ее жизни.
Наша жизнь отравлена — мы нетерпимы, предпочитаем равноправию иерархию подчинения, искалечены всесилием подлости. Все было основано и все держалось на страхе. Мы боялись кризиса, роста цен, ограбления, забастовки, успеха других людей и других стран, боялись слежки, доноса, свободного слова и при том боялись, как бы нас не заподозрили в страхе. У всех у нас была психология собак: мы в клочья рвали того, кто сознавался, что трусит… Господство страха — симптом обреченности. Точно так же были пропитаны страхом все древние культуры накануне своего крушения — Персия, Карфаген, Сиракузы… Они боялись друзей, боялись врагов, боялись чужих богов и собственных мыслей. Раздавленные страхом, эти культуры, уходя, ничего не оставили для мира, кроме свидетельств поклонения своему страху…
Мы осуждали то, что было плодом нашего невежества, но не сознавались в невежестве. Мы казались себе теми, какими хотели быть, и требовали воздаяний не за то, что совершили, а за то, что собирались совершить. О вселенский потоп лицемерия!
Только жизнь сохраняла мудрость: обрекала на гибель нежизнеспособное, вынуждала обреченных рубить сук, на котором они сидели: страх потерять то, что имел каждый, толкал нас терять то, чем владели мы все…
Сегодня — последний день дежурства. Почти целый день у люка проторчал я. Зато завтра закроемся изнутри и будем дрыхнуть сколько влезет…
Кажется, я люблю Луийю. Любовь на пепелище — в этом что-то есть…
А если это не любовь? Если это гормоны, какими нас накачивают?..
Боже, боже! Теперь, когда стало ясно, что Острова, а может, и весь мир постигла катастрофа, меня питает странная надежда. Я хочу, хочу жить с тою же силой, с какою еще десять дней назад хотел умереть!..
Я люблю Луийю, но, — так получилось, так вышло, — я соблазнился Гортензией. Клянусь, тут нет ни грана подлости! Изменившийся мир требует изменения устаревших понятий. Нельзя больше сдерживать человека, потому что в нем — правда…
Гортензия ни в чем не виновата. Она не виновата в том, что женщина. И я не виноват в том, что мужчина. И мы оба не виноваты в том, что Луийя скована травмой. Мне жаль ее, искренне жаль, но, в конце концов, беда могла случиться с каждым из нас.
И уж если быть полностью откровенным, может, Луийя все и спровоцировала. Когда я признался ей в любви, когда она не отвергла меня, мне захотелось, чтобы у нас был ребенок. Согласен, дикое желание: кругом смерть и гибель, женщина покалечена, а я — о ребенке. Но я захотел ребенка, своего ребенка, в котором отказывал себе всю жизнь…
Так вышло, так получилось — я вошел в спальню и увидел Гортензию. Она блистала в костюме Евы, смотрясь в темный экран телевизора, как в зеркало. Я не помню себя, я только руки протянул, а Гортензия уже очутилась в них…
Когда оказалась под угрозой жизнь племени, престарелый Лот не посчитался с предрассудками, мог ли я дурачить себя идиотским обязательством перед Луийей?..
Я люблю Луийю. Я все ей объясню. Она мудрая и поймет, что вместе с гибелью прежних отношений должна погибнуть и прежняя мораль. Та мораль исчерпала себя. Она тоже была лживой и вела к катастрофе.
И кроме того — нас здесь трое. Мы просто обязаны жить одной семьей и не позволять эгоизму калечить нашу свободу…
Фромм уверен, что мир погиб. Пусть погиб, я буду наслаждаться каждой минутой, каждой секундой, и мне начхать на все остальное.
Черномазая гордячка по-прежнему сует мне в нос фигу своей морали. Даже теперь, когда у моих ног Фромм! Он будто с ума сошел. Как мужчина, он порядочное дерьмо, но лучшего нет, и я делаю его Аполлоном.
Я достаточно унижалась. Теперь я хочу, чтобы до слез, до мольбы, до истерики унизилась эта меланезийка. Я заставлю ее это сделать. Заставлю! И Фромм отныне не пошевелит и пальцем, чтобы защитить ее. К тому же она обречена. Никто из нас не станет отпиливать ей ногу — зачем?