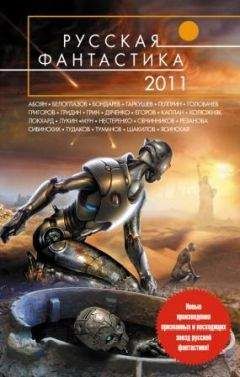— Эта самка бесплодна, — сказал Уаджи. — Мы храним её, потому что она — удачный небедж, но если от неё нельзя получить плодов, то…
— Не трогайте её, — попросила Мересанк. Уаджи пожал плечами.
— Пока не тронем. Продолжим засевать. Жаль, что она получилась слишком тяжелой для полёта.
Нога у Мересанк была сломана, но наутро оказалась целой. Матери поджали губы, посмотрели друг на друга и велели Мересанк никому не говорить, как быстро срослась кость.
Когда жрец Уаджи пришел её проведать, матери сказали, что лекарь ошибся, а отпечатков перелома из канак каемвас найти не удалось, будто их и не делали.
Мересанк приходила к Сешеп пару раз в неделю. Ей не разрешили спускаться в вольер и она обычно сидела на стене. Иногда показывала язык бегемотихе, та ревела, обнажая острые зубы.
Сешеп жадно учила новые слова и разговаривала всё лучше — с нею раньше никто не занимался.
Особенно она полюбила загадки и стишки, вроде «Был ребенок — не знал пелёнок. Стал стариком — сто пелёнок на нем». Её разум находил глубокое удовольствие в попытке угадать, представить, перевести с языка символов и иносказаний в язык настоящих вещей.
— Это кочан араха, — говорила Мересанк, и Сешеп замирала, потом рычала от восторга, смеялась, каталась в пыли, изгибаясь, как игривая кошка.
Мересанк её очень полюбила.
Я пытаюсь угадать, что сейчас делает Сешеп.
Мне хотелось бы думать, что её оставят в покое, под навесом в Нижнем гареме, смотреть, как над горизонтом встаёт розовая Старшая Луна, а за нею, через пару часов, жёлтая, как мед, Младшая.
Но я понимаю, что Аха нужно избавиться от всего, что связано со мною, и очень скоро он лично укажет, кто из бесплодных небедж будет принесен в жертву Сету, тёмной грани Малааха.
Я собираюсь с силами и начинаю растягивать полосы бинтов, притягивающих к телу мою правую руку. Тройной рывок и расслабиться. И снова. И снова. У меня не очень много времени, но и не мало. Я не боюсь.
Я доверяю своей судьбе.
Часто в жизни мы паникуем и страдаем потому, что боимся поверить в то, что происходящее с нами — не просто так, что это шаг, рывок к чему-то большему, к следующей части. Что лишения и боль в настоящем не продлятся вечно, но пройдут и забудутся. Что не нужно думать о том, что принесет будущее, когда утихнет боль отвергнутой любви, достаточно ли будет сил или здоровья у того, кем мы еще не стали. Нужно сначала им стать, а к этому пути у каждого свои.
Мой путь — чередовать напряжение и расслабление и тянуть прибинтованную к телу руку, сильно напрягая плечо. И есть только это, более ничего.
На шеститысячной попытке бинт немного подается, и я могу увеличить усилие.
Еще пять тысяч — и зазор между рукой и животом уже в ладонь, а всё моё тело в холодном поту.
В гробнице фараона много запечатанных кувшинов с пивом, медовой водой, крепким вином из-за моря. Я вдоволь напьюсь, нужно только встать с этого стола.
Бинт трещит и рвётся, моя правая рука свободна. Но я прекращаю двигаться, лежу, тяжело дыша, слушая свою кровь, собираясь с силами перед следующим ходом.
Я думаю о том, как отец научил меня играть в сенет.
— Жрецы зачитают Списки, — жарко прошептал Аха на ухо Мересанк. — Ты станешь моей. Скоро.
— Если на то будет воля Малааха, — ответила она, чуть улыбаясь и высвобождая руку.
Аха отмахнулся, будто и не слышал ее.
— Ты очень красива, — сказал он и положил руку на её бедро. Она опустила взгляд, вопросительно подняла бровь: «что это на моем бедре?»
— Положи свою так же, — сказал Аха хрипло. Мересанк положила. Так они стояли друг против друга — он горячий, она холодная, как будто готовы были закружиться в танце под звуки струн систра.
— Ты красив, как я, — сказала наконец Мересанк. — Я знаю твои руки, я касалась их ещё до рождения. Я знаю твои ноги — они меня пинали в утробе матери.
— Вот так? — спросил Аха и сделал подсечку. Если бы Мересанк учили чуть хуже, она бы растянулась на полу, или пришлось бы надеяться, что Аха ее поймает. Но её учили хорошо и она отскочила, ловкая, как кошка.
— Да, так, — сказала она, смеясь. — Только там было некуда отпрыгнуть. Пойдем, Аха. Мне надоело брить голову и хочется наконец почувствовать себя взрослой.
Они взялись за руки и пошли по прохладным коридорам дворца к храмовому крылу, где их и других молодых небтауи ждала церемония взросления — расставание с детской косичкой на голове, когда ее срезают, а кожу умащают мазью и облучают особым светом из храмового канак каемвас. После этого волосы перестают расти и разрешается носить парики.
У их матерей было много париков — кудрявые светловолосые, тёмно-рыжие длинные и чёрные, как смоль, заплетенные во множество тонких косичек. Всегда одинаковые для обеих, чтобы различить их было невозможно.
Мересанк родилась на полчаса раньше — поэтому она первой взошла на серебряный алтарь. Аха нахмурился, будто только сейчас осознал её первородство.
Её детскую косичку срезали и положили ей на колени, на голову возложили тяжёлый, сияющий тусклым золотом немее.
Церемонию вёл У ад ж и — бывший жрец Нижнего гарема, а теперь хранитель Ковчега — части дворца, выстроенной вокруг того, что осталось от древних небтауи.
Жрецы сказали положенные слова, Уаджи воздел руки и немее испустил вспышку жара, который Мересанк увидела с закрытыми глазами и угадала в нем белый-белый свет звезд, среди которых проходил ковчег предков, свободный между мирами.
Жрецы запели — высоко, торжествующе — и Мересанк поднялась с алтаря взрослой женщиной, без единого волоска на гладкой голове, с широкой улыбкой «наконец-то».
Сёстры и братья, матери, сотни людей в алтарном зале чествовали её взросление, хлопали ладонью о ладонь и тоже улыбались. В человеке, стоящем у входа, Мересанк узнала своего отца, небтауи-шех Бакара — она не видела его много месяцев. Отец ни капли не постарел, выглядел по-прежнему тридцатилетним.
Мересанк остановилась и поклонилась ему, счастливая.
«Ликуй, пой, о отец мой, ибо милостью Малааха взошли семена твои, и прекрасны их побеги, и щедрым будет урожай».
Люди обернулись, и в радости и благодарности склонились перед своим фараоном.
Бакара наклонил голову, оперся на высокий светящийся золотом посох, и продолжил смотреть, как свершается ритуал взросления над его детьми и детьми его народа.
Мересанк и Аха сидели на скамье в саду Верхнего гарема. На обоих были символы их нового статуса — парики. Аха выбрал длинные волосы цвета соломы, Мересанк — зелёные кудри до плеч.
Она сунула палец под парик, почесала горячую кожу.
— Жарко в них, — пожаловалась она.
— Зато солидно, — отозвался Аха.
Группа красивых девушек в тонких струящихся платьях прошла мимо, двое последних захихикали, толкнули друг друга локтями, чуть поклонились.
— Я теперь могу к ним ходить хоть каждый день, — сказал Аха, улыбаясь им вслед.
— Что же не идёшь? — спросила Мересанк, поднимаясь и забирая со скамьи свёрток с медовыми лепешками для Сешеп.
— Я жду, когда жрецы зачтут Списки Осири, — сказал Аха. — Жду, когда они скажут, что ты должна стать моей. Жду тебя, Мересанк.
Она чуть помедлила, потом прижала свёрток к груди и ушла, не ответив.
Матери вошли к Мересанк перед сном, когда она уже смыла с лица дневные краски и сняла парик и одежды. Они сели на пол, скрестив ноги, и Мересанк послушно опустилась между ними. Матери смотрели на неё с любовью и беспокойством.
— Завтра огласят Списки, — начала та из матерей, что сидела справа.
— Мы уже знаем, — сказала вторая. — Уаджи из жрецов только что был у нас в покоях.
— Аха? — спросила Мересанк, не поднимая глаз.
— Нет, — ответили матери хором.