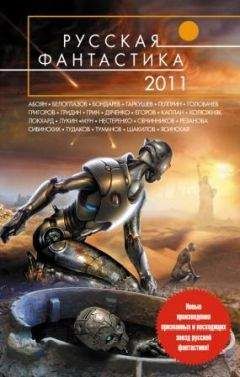На следующее утро я перемещаюсь в лабораторию. Здесь тестируют мои электронные модули, один за другим. Наблюдать собственное устройство на экранах довольно любопытно. В особенности впечатляют тянущиеся от черепной коробки по всему корпусу нейронные виброжгуты, похожие на расползающихся из норы змей.
Живой появляется, когда я уже полностью смонтирован, укомплектован и готов к отбытию. Наряд его напоминает мне не лунный скафандр, как Аникушке, а, скорее, водолазный костюм.
— Представьтесь, рядовой, — велит он.
Я называю своё прозвище, модель и перечисляю основные характеристики.
— Аннигилятор Андрей, — бубнит живой из-под похожего на водолазную маску намордника. — Скажите, аннигилятор, вы хотите жить?
Я подавляю внезапное желание его пристрелить. «Жить», неужели он не представляет, насколько этот глагол цинично звучит, когда речь идёт о таких, как я.
— Никак нет, — отвечаю я, справившись со злостью. — Я не испытываю несбыточных желаний.
— Я имею в виду существовать, — поправляется живой. — Если бы вам предложили прекратить существование, что бы вы ответили?
— Я не имею права, — заученно отвечаю я. — Пока идёт война, мой долг — защищать Родину. Я всем доволен, — поспешно добавляю я, вспомнив Сержанта. — Моё существование меня устраивает.
— Ну, а если война закончится? Как вы видите своё будущее после окончания войны?
— Никак не вижу, — честно признаюсь я. — На это у меня есть начальство.
— Хорошо, рядовой. Спасибо. Вы свободны.
* * *
— Андрей, — колесит ко мне Анка, едва я появляюсь на передовой. — Знаешь, я жутко рада.
— Чему рада? — автоматически переспрашиваю я.
— Да тебе же, дуралей. Я… Знаешь, я, наверное, соскучилась.
Будь у меня сердце, оно пропустило бы ритм, а может, наоборот, забилось бы сильнее. Ещё я, по-видимому, покраснел бы от удовольствия, будь у меня хоть что-нибудь, способное краснеть. Сейчас же вместо всего этого я испытываю странное, неведомое доселе и неуютное чувство.
— Что новенького? — превозмогаю это чувство я.
— Ничего. Ни одного инцидента за двое суток. Андрюша, ты бы сказал этому своему…
— Что сказал?
Анка не отвечает, и я, обогнув её, двигаюсь по траншее к тому месту, где застыл Аникей.
— Что тут у вас? — спрашиваю я. — Полаялись, что ли?
Десять минут спустя выясняется, что полаялись, и не раз. Что всякие фифы — такие же дохлячки, как остальные, но слова, видите ли, им не скажи. Что Аникушка не виноват, если у некоторых трупов отсутствуют не только половые признаки, но и чувство юмора. И что видал он таких напарниц там, где нам всем давно положено находиться — в гробу.
— Травит один за другим пошлые анекдоты, — жалуется Анка часом позже. — Озабоченный покойник — это что-то запредельное. У меня такое впечатление, что будь у него чем, он бы меня изнасиловал прямо тут, на позициях.
— Ну уж прямо-таки изнасиловал, — я осекаюсь. Мне становится скверно, так скверно, как не было, пожалуй, никогда с тех пор, как я умер. Образ, который я зримо представил, чудовищен. Он отвратителен, ужасен, он попросту за гранью добра и зла. Совокупляющиеся киборги, трахающиеся мертвецы. Неживые, уродливые и злобные куклы, тщащиеся выдать себя за людей. Ничего более унизительного и горького я раньше не ощущал.
— Меня спросили сегодня, — наконец говорю я, — хочу ли я жить.
— Жить? — Анка лязгает металлическими сочленениями.
— Представь. Потом поправились: хочу ли, дескать, продолжать существование. Я ответил, что да. Сказал: всем доволен.
— И что?
— Знаешь, я подумал сейчас… Подумал, что раскаиваюсь в этом.
* * *
— Расскажи, как это бывает, Андрей.
— Что «это»?
— То самое, между мужчиной и женщиной. Я читала об этом, конечно, ещё тогда, раньше. Но никогда не говорила, ни с кем.
Я молчу. Я ничего не хочу, не собираюсь рассказывать. Это постыдно для мертвеца — рассказывать о том, что бывает между живыми людьми. Сейчас я позову Аникушку, его дважды просить не надо.
Я не двигаюсь с места. Для неё это важно, понимаю вдруг я. Очень важно, она не стала бы иначе просить. Я начинаю рассказывать. Сначала косноязычно, запинаясь от дурацкой стыдливости, потом всё более откровенно и, наконец, прямым текстом, не стесняясь в выражениях. Ловлю себя на том, что нарочито использую самые грубые и бесстыдные слова, ставшие абстрактными для меня и потому утратившие, потерявшие скверный, похабный смысл. Я замолкаю.
— Ещё, — требует Анка.
— Достаточно, — отказываюсь я.
— Если бы мы были живы, ты проделал бы всё это со мной?
У меня нет сердца. Нет души. Отчего же мне сейчас так больно и, главное, где?
— Да, — слышу я свой лишённый выражения механический голос. — Мы с тобой занимались бы этим и ещё многим другим.
— Расскажи мне, — снова просит Анка. — Не говори больше «мужчина» и «женщина». Говори «я» и «ты».
* * *
Я, видимо, схожу с ума. А может быть, уже спятил. В редкие минуты просветления я ужасаюсь тому, о чём мы с Анкой говорим день за днём напролёт. И в особенности тому, что, когда говорим, я забываю. О том, кто мы, зачем мы здесь, как выглядим и что нас ждёт. Я забываю, что не человек. Что я — ничто и никто, ноль, заточённое в броню мёртвое пушечное мясо.
Артобстрел начинается ночью, внезапно. Переключившись в режим «Ч», я не сразу даже понимаю, что это артобстрел — их не было целых три года.
— В убежище! — во все динамики кричит откуда-то слева Аникушка.
Мы скатываемся по аппарели в убежище. Наверху грохочут, ярятся взрывы, трясётся над головами земля.
Артобстрел длится три часа кряду, затем обрывается — внезапно, разом, как и начался.
Входную дверь заклинило. Мы срываем её с петель, аннигиляторным разрядом Аникей уничтожает образовавшийся за дверью завал. Один за другим мы спешим из убежища наружу.
Линии обороны больше нет, вместо траншей — развороченная, перелопаченная разрывами земля.
— Вот они, — раздаётся в ресивере голос, то ли Анкин, то ли Аникея — не знаю.
Они переваливают через вершину бугра одновременно — десятки, сотни «Самураев», «Ниндзя», «Камикадзе». Сходу они начинают палить по тому, что ещё несколько часов назад было нашими позициями. По нам.
«Переход в режим «А». Переход завершён, режим «А» установлен. Идентификация цели: множественные наземные цели. Расстояние до ближайшей: тысяча шестьсот двадцать два метра, скорость четыре и четыре метра в секунду. Наведение на цель: наведение завершено, упреждение полфигуры. Огонь! Идентификация цели… Расстояние… Скорость… Наведение… Упреждение… Огонь! Идентификация цели…».
Я считываю этот протокол уже под землёй. Я не понимаю, не знаю, что произошло наверху, и не знаю, как сюда попал.
— Артобстрел, — объясняет Анка. Она толкает меня перед собой куда-то вглубь и вниз, в темноту. — Они возобновили обстрел и накрыли и нас, и своих.
— Кто «они»? — не понимаю я.
— Косорылые. А может, и наши.
— Как это «наши»? — ужасаюсь я. — И где Аникей?
— Да так. Огонь был со всех сторон. Аникей убит, расщеплён на атомы. От обороны ничего не осталось, от наступающих тоже.
Я ошеломлён.
— А как же мы с тобой?..
— Не знаю, — Анка останавливается. — Я переключила режим из «А» в «Ч». Сама не понимаю, как у меня это вышло: может быть, отказала блокирующая автоматика. Потом я забрала тебя.
Только сейчас мне приходит в голову провести примитивный тест-самоконтроль. Если бы я умел стонать, то, наверное, застонал бы, а то и завыл. У меня разбита ходовая, не хватает нижней правой конечности, корпус смят, заряд батарей десять процентов от номинального, гидравлическая жидкость утекла полностью, смазка…
— Голова не повреждена, — говорит Анка. — Ничего, в мастерской тебя подлатают.
— В какой мастерской?! — мне хочется орать во всю глотку, но у меня нет глотки, чёрт бы меня побрал! — От мастерских наверняка ничего не осталось, да нам туда и не пройти!