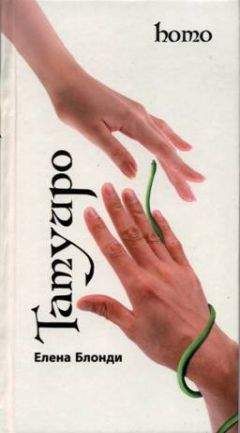Еле слышно бормоча дым клубился, свивался тугими верёвочками и, вцепляясь кончиками, вползал в рот, ноздри, глаза и уши охотника.
Тику, раскачиваясь, смотрел на него слезящимися глазами. Подвинулся ближе, таща за собой тючок, и сунул его под перевязанный локоть Меру.
— Да помогут тебе боги, сильный дурак, прости старика, что накричал, заставил. Но я не могу с этим сам.
Отполз подальше и прислонился к стене. Меру с лицом, превратившимся в маску, клонился всё ниже к исчезающей горке порошка, мычал, не закрывая рта, и трясся, тыкаясь локтем в подставленный тючок.
— А женщины твои… Что ж. Наверное, и их ты увидишь, может быть. После главного. Или научишься думать. И тогда уж…
Бормотал, прислушиваясь к тому, как утихает в сдавленной кривыми костями груди боль одиночества знания. Почти задрёмывал, зная, Меру просидит над чурбаком немалое время. Главное: уследить, когда бабочки отпустят его. Дать попить, и, если будет совсем плох, пусть возьмёт отты.
— Я правильно сделал. Ему есть за что драться, и он сильный, охотник. А я что — старая коряга Тику. Отта ещё есть, когда провожу, то и выпью. Пусть идёт думать. Да. Он сможет. Или не сможет, но всё равно, теперь ему нести эту добычу.
Может ли умереть, стать прахом то, что находится в расщелине между жизнью и смертью? Прах серых бабочек вился тонкими струями, но они не были теми бабочками, что летали, присаживаясь на солнечные пятна в лесу. Серые бабочки лишь названы так, потому что являлись увидевшим их — с крыльями и выпуклыми глазами, но ничего от живых не было в них. Они — самая суть пустоты, грань перехода, которая есть всегда. Для тех, кто осмеливался смотреть, или тех, кому суждено было на грани между жизнью и смертью увидеть: пустота принимала форму, сама. В этом мире было именно так.
Витька спал и никаких бабочек не видел. Только застонал во сне, когда снова ему стало восемь лет и он, раскачавшись на тарзанке, выпустил из рук лохматую петлю, обжигая кожу ладоней, и полетел на корявый ствол степной груши. Тогда не успел ни вскрикнуть, ни даже моргнуть, зацепился неловко отставленной ногой за низкую ветку, его крутануло в воздухе, и, стукнувшись скулой, обдирая ухо об кору, свалился вниз, в ямищу между сухими корнями. Шум в голове утихал, и снова услышался стрёкот степных кузнечиков и голос маленькой Таньки, которая, боясь подойти, стояла черным столбиком, заслоняя солнце, спрашивала:
— Витька? Ты живой… там?… — а в голосе уже звенели кузнечики слёз.
Во сне, пришедшем через два десятка лет, Витька ясно увидел, как трещины в коре груши затянула серая дымка, встала туманом между его целой головой, летящей на ствол, и его же разбитой со всего маху головой, которая будет через мгновение. И в этой дымке была пустота бесконечности. Он летел медленно, как космический корабль через галактики, — неподвижно висел на огромной скорости, и не мог отвести глаз от серого тумана, в котором шевелились чудовища и вырастали деревья, рушились города и толпы людей плоской волной кидались от края к краю, умирая вместе, чтобы осыпаться из серого тумана мелкой трухой.
Во сне его затошнило, и тошнота, как уже пришедший удар, так сильно вздёрнула летящее в воздухе тело, что снова неловко отставленная нога дёрнулась, цепляясь за низкую ветку. И с ударом о землю он проснулся, вскидываясь с влажной подушки. Рывком садясь, взмахнул руками и, уже приходя в себя, увидел в остатках сна, как серый туман разлетелся плоскими хлопьями, похожими на крылья больших бабочек. Витька придержал одну руку другой, оглядываясь в жёлтом сумраке, чтобы не разбудить спящую рядом Аглаю. И не увидел её.
Спуская ноги с постели, прислушался, стараясь за стуком сердца и собственным хриплым дыханием понять, что там, в чёрной дыре дверного проёма в коридор, зажурчит ли вода, скрипнет дверь.
Но было тихо, и даже город тяжело молчал, будто и он, ударившись, потерял сознание и лежал за окном плашмя.
Витька еле слышно выругался, чтобы совсем проснуться. Успел мельком подумать о том, что стал часто ругаться и злиться. И трудно сдержаться.
Хотел окликнуть Аглаю, но тяжёлая тишина раздражала, беспокоила. И он просто пошёл в коридор, тихо ставя босые ступни. У зеркала, наполовину скрытого висящими на вешалке куртками и плащами — откуда у одного столько старья, всё собирался половину выкинуть, но после жалел, придумывая, как можно снять Стёпку в дедовом макинтоше или Тину в забытой тёткой пелеринке, — на ходу нажал ладонью тёплый пятачок выключателя. И прошёл, не останавливаясь, с чувством помехи от того, что промелькнувшая в зеркале фигура выглядела как-то не так.
Беспокойство покусывало, подгоняло. Свернув за угол, Витька встал в коротком коридорчике, ведущем в кухню. За матовыми узорами стеклянной двери вздрагивал огонёк свечи, бросая блики на два силуэта по обе стороны стола.
Два? Витька провёл рукой по груди. Опустил голову, всматриваясь, но в слабом мерцающем светом разглядеть ничего не смог и, протягивая руку вперед, шагнул к стеклу.
Нащупал холодную круглую ручку, потянул на себя. Открывал медленно, чтоб не скрипели петли. И, придержав дверь, чтоб не ударилась о стену, замер в проёме.
Но две женщины, сидящие друг против друга, даже не пошевелились. Темноволосые, обнажённые, сидели прямо, положив руки на столешницу, а между ними скакал на огарке свечи рыжий хвостик пламени.
Слева сидела Аглая. Свет рисовал небольшую грудь, чуть видную за рукой, и линию подбородка, показывал чётко вырезанные ноздри и тёмные ямы над скулами. Переливался бликом на пряди волос, наискось прочертившей щеку.
Женщина, что сидела справа на длинной деревянной лавке, была не так худа, свет ставил мягкие точки на круглых плечах и сильном подбородке, а волосы, забранные в небрежный жгут, спускались по спине, и хвост жгута лежал рядом с голым татуированным бедром.
Витька, опустив голову, глянул на собственную кожу со следом рисунка. Без Ноа будто чужую. Прижал руку к груди.
Край полных губ татуированной женщины чуть изгибался в улыбке, и Витька, потирая грудь, подумал: это она ему улыбается, не переводя взгляда. А Аглая сидела неподвижно, вперив блестящие глаза в глаза собеседницы.
— Что… ты…
Рука Ноа поднялась со стола и вытянулась к нему, показывая ладонь в останавливающем жесте. Чуть повернув кисть, поманила. И снова ладонью остановила, показывая, где надо встать.
— Не бойся. Она спит. И будет спать, пока я смотрю ей в глаза.
— Оставь её.
Отсюда, близко и сверху, ему было видно, какие они разные. Сильная, с круглыми руками и плечами Ноа. Ложбинка между полных грудей с чётко очерченными горошинами сосков, колено крепкой ноги, поставленной на перекладину под столом, — ноги женщины, которая проходит за день большие расстояния и, плавно садясь отдохнуть, не опирается рукой о землю. Бронзовые блики на густых волосах.