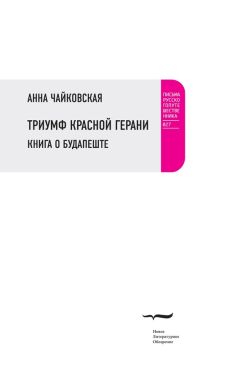Он боялся пропустить развилку. — Если пойдет правее, встанут перед ним черные сосны. Через лесок если пройти, то можно спуститься к дороге. Но… там они стояли с Витькой, смотрели, как достает головой до луны черный демон. Туда не надо.
Лучше не думать демона, знал Вася. Просто знал, и знал еще, даже если демон без имени, все равно — лучше не видеть его в голове. Он может услышать. И придет…
По вечерам, когда летние звезды висели низко, мальчишки часто собирались на берегу, в своем тайном месте, и разговаривали. Место не такое уж и тайное — за горбатыми камнями, где на песке лодки, собирались ребята постарше. У больших особенных разговоров не шло. Там — девочки. Они пищали и пили сухарь, ругали мальчишек дураками и визжали, когда им совали в руки ужа-бычколова, но не уходили. А если какая убегала по песку в темноту, за ней, пыхтя, мчался пацан, и через полчаса оба возвращались, смеялись.
Вася сидел за камнями с приятелями, слушал, про что там большие и грустил, что они всё о ерунде. Иногда, когда ждали девчонок, говорили о космосе и это было интересно! Но со своими — интереснее. Правда, когда начинались страшилки, то Васе опять становилось скучно. Все черная рука, да белая простыня, с детсада все это знают. Один раз хотел рассказать настоящее, что сам видел и что наснилось. О том, как по ночам вырастает в степи старая церква и утром нет ее. Про баб каменных, что бродят в траве и от взгляда валятся, а отвернешься — снова стоят за спиной и слепыми глазами на тебя смотрят, смотрят. …Как из воды, когда она светится, выползают светилявочки, размером с Васин кулак, пищат так, что уши режет, и в руки брать нельзя, а то в прорезанную дырку в ухе прыгнет и останется там. И тогда не будешь слышать здесь, а все только оттуда, из-под моря. …Про дырку среди камней, куда в Бешеной вода уходит. Сто лет уходит и все никак не уйдет, а как засосется туда вся, то и откроется на дне бухты тыща костей и черепов — все обмотанные золотыми цепями. …О девочках черного винограда, которые в старом винограднике за сосновым лесочком, и кто их видел, у того на сердце открывается глаз и все время плачет.
Только о каменных бабах успел, а все стали смеяться. Толик толстый заходил по песку, как пингвин, руки растопырил, стал писклявым голосом кричать «я баба, пришла Васюна пугать, дайте ему сухой трусняк» и все еще больше смеялись. И Вася рассказывать больше не стал. Только сам смотрел, везде — в окно дома, в саду и под смородиной в огороде, в степи на курганах и в старых балках, а особенно там, где растет кривая груша и с обрывчика видно, как солнце уползает в море. И когда вечером на камни приходил Толик — белый, как старый кисляк, жаловался, что всю ночь голова болела и даже материна таблетка не помогает, то Вася не говорил, отчего. Не потому что злой, а просто — не поверит ведь Толька.
Подгребая под себя старую траву, немножко посидел на склоне, отдыхая, и полез по тропке вверх, на третий курган. После того, как весенняя птица помогла, успокоился. Развилку не пропустил — вовремя вспомнил, рядышком с ней летом ладошки растут. Лист у них светлый, широкий, по крайчикам растопыренный. Все лето в ладошки звезды падают и листья от этого светят, но секретно. Надо глаза прикрыть, только щелочки оставить и сказать про себя «развернись, ладош, покажи звезду, отбирать не хочу, на тропу посвечу». И тогда засветят пятнышки, там, где поворот тропы. Сейчас зима и ладошек нет, но если те слова сказать, то видно — свет тут всегда живет. Там еще суслики живут, рядом с ладошками. Встанут столбиком и свистят на людей, а ручки впереди себя держат, будто в них конфета. Глупые, лучше б за хорьком следили, он рыжий, как сохлая трава и узкий, как стебель, сразу не увидишь. Прыгает, спину кольцом гнет, не успеешь оглянуться — доскакал и за горлышко.
На верхушке третьего холма было славно. Впереди врастопырку торчал свет «Эдема» и уже стало понятно, доберется. Надо Витю найти сперва, наказал себе Вася, напомнить про подарок. А может получится самому отдать Наташе, и хорошо бы.
Стащив шапку, вытер лицо. Тут наверху видны были звезды, будто они высыпались у тучи из подола, как у матери по лету алыча из фартука. Она тогда тащила целую кучу и вдруг Филька под ноги, и посыпались желтые шарики, заскакали около его миски. Мать ругалась…
Вася отдыхал, зная, тропа еще длинная, идет не прямо вниз, а кружит по склону и выходит к последнему холму сбоку, а потом лезет на него наискосок. А там уж сбегает по кругу на берег. Виляет. А то ведь, если прямо наверх или вниз — после дождя совсем не проберешься. Лучше лишку пройти, да не скатиться.
Попрощался взглядом с заревом Эдема и снова полез вниз, в черную лощину без звезд.
— Эх, Дарена, сердце мое, ну что ты там? Водка греется!
Даша улыбнулась, протягивая резную хрустальную рюмочку над столом. Смотри-ка, давно уж подарены, а все не побиты. Хотя, дюжины не насчитать, вон у тарелок стоят и цветные, золоченые по-дурацки.
Свояк, красавец, натягивая на широких плечах синюю рубашку со сбитым уже набок гастуком, скалил в улыбке прокуренные зубы, подмигивал, кивал подбородком на дверь, намекая, мол, сейчас мы с тобой, Дарена-свояченица, ото всех убежим. Это дежурная шутка была у него, у Леонида, но сестра так и не привыкла за десяток лет и, ловя под столом младшую, вытирая ей мокрый нос, краснела широким лицом и хмурила светлые бровки. А потом на Дашу кидала взгляд быстрый и настороженный, как ножичком резала. В нем все и написано «против моего красавца кто устоит? Хоть ты мне и сестра родная, но смотри!»
Даша уж и с Ленчиком говорила, просила, пусть бы сестру не изводил, и Маше сто раз клялась, смеясь, зачем ей чужой мужик, хоть раскрасавец. Но та все равно, как взревет благоверный после третьей рюмки, так сразу глазами-ножичком по лицу ззын.
Приняла полную рюмку и стала держать на весу, следя — не накапать на стол, а поставить нельзя, расшумятся. Надо ждать, пока Ленчик густые кудри, сединой битые, пятерней на лоб закинет и скажет, сочно, громко да долго. Любил свояк тосты длинные и витиеватые, после восьмой иногда забывал, с чего и начал. Но к тому часу уже никому и не надо, о чем речь. Подождут, пока замолчит, воздуха набирая, и лезут чокаться, да и пьют, делов то. Ленчик не в обидах, ему и так весело. Вот родила приморская степь такого — все ему в смех да в радость. А что грустить, дом полная чаша, жена красавица, деток двое и вот уже третий Машке живот поднимает. И выступает жена павой, руки под грудью складывает и лицом делается, как положено — умильная да достойная. Но когда Ленчик начинает баловаться, мол, сейчас сестру старшую уволоку в сараюшку, то от умильности и следа не остается.