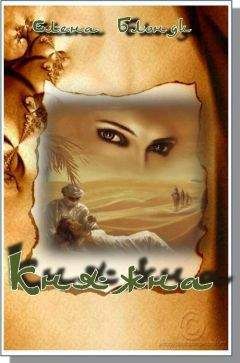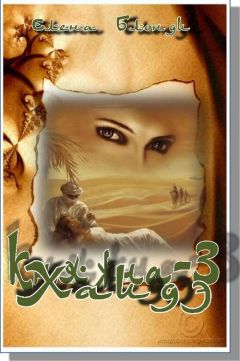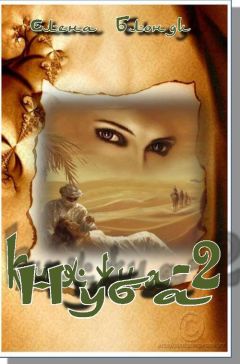— Я не понимаю… — Хаидэ слушала, стараясь уложить в голове сказанное. Техути поискал слова и пояснил терпеливо:
— Она говорит о будущем, которое все равно наступит, о неизменном, о том, которое единственно верно. Но добавляет к своему откровению советы, что нужно изменить в себе, когда ты идешь к нему. И люди не могут понять, княгиня, к чему им меняться, если это не изменяет их будущего! Отсюда до ненависти всего шаг. И все делают его. Потому Цез похожа на траву-странник, клубок которой вечно торопится впереди ветра. И ничто не может остановить ее бег.
— А если кто-то остановит?
— Никто. И ничем. Даже сильный, тот, кто ужаснется себе, но примет ее истины, он останется менять себя, а Цез пойдет дальше, влекомая своей судьбой. Но зато сильный может встать на нее пути, получить свое знание. И станет еще сильнее. Вы готовы, сестры? Она узнает о вас все. Но — поможет.
Тень под деревьями стала еще гуще, снаружи по желтой траве защелкал быстрый дождь. Ахатта села, зябко согнув плечи. Так же, как недавно Техути, обхватила руками колени. Мокрый ветер задувал сбоку, за деревьями заржала Цапля, перебирая по мокрой траве тонкими ногами.
— Я попрошу мужа найти ее и привести в дом.
— Нет! — Ахатта, утыкаясь лицом в колени, простонала и снова сказала:
— Нет-нет-нет! Она скажет и я… я потеряю тебя, сестра. А может и себя тоже.
Ветер снова взвихрил листву и перед Хаидэ упал, щелкнув по траве зеленым боком, персик. Она смотрела на него, не видя, а перед глазами снова и снова плыли пьяные смеющиеся лица потных мужчин и она, отраженная в большом зеркале, одетая в жадную похоть, требующая грязных и грубых наслаждений. Снова и снова, с нетерпением ожидая прихода следующей ночи. Он давал ей зелье, но разве она хоть раз отказалась выпить его…
— Это я могу потерять тебя, Ахи. Но все равно, мы должны.
Встала, поправила волосы, забирая их под витой обруч. Решение принято и ей стало легче. Можно больше не думать об этом. Пока не появится Цез — высокая худая старуха с мертвым глазом, и другим, блестящим, как лезвие ножа.
Ветер утих и облако, ворча, перевалилось через свой бок, медленно катясь дальше. Освобожденное солнце брызнуло горячими лучами, пронизывая мокрую листву, и вдруг на дорожке, ведущей к храму, загорелась яркая радуга, уходящая в небо.
— Вставай, Ахи, пойдем. Нужно оставить дары и возвращаться.
Она улыбнулась Техути и повела подругу по мраморным плиткам. Египтянин двинулся следом.
«Вот и снова она показала свою силу, даже не поняв этого. Сколько же в ней ее, этой силы? И для чего дана она этой женщине?»
В небольшой беседке, с куполом, стоящим на стройных колоннах, Хаидэ произносила слова для Артемиды, почти не думая о том, что говорит. Светлыми тенями плавно ходили рабыни, раскладывая дары у ног лесной охотницы, и княгине показалось, что каменный пес, лежащий у складок хитона, вытянул острую морду, нюхая принесенное мясо на куске белого полотна. Вился тонкий дымок от возженных курений и через него пролетали, спеша по своим живым делам, пчелы, исчезая за ветками, свесившими листву прямо на круглые плечи богини.
Закончив молитву, она поклонилась, прижимая руку ко лбу, тронула пальцами другой неподвижные каменные драпировки. И обходя спутников, направилась по дорожке к яркому свету дня. Там, на границе деревьев и поля, ее ждала запыленная Фития и Хинд, держа в поводу лошадь. А рядом переминался с ноги на ногу высокий мужчина в оборванной одежде, светловолосый и светлоглазый, с улыбкой на смущенном красивом лице. Потер заросший русой бородой подбородок и поспешно поклонился, когда княгиня остановилась, с удивлением разглядывая его.
— Вот, — сказала Фития, отходя в сторону и показывая рукой на незнакомца, — просился к вам. Увязался, ровно пес на базаре. Я посмотрела, птичка, у него нет даже ножа. Сказал, споет песен. Ну, бродяга, скажи госпоже сам, чего хотел от нее.
Тот улыбаясь, затряс головой, повел рукой, до того спрятанной за спину, показывая зажатую в ней цитру. И вытянул шею, глядя мимо Хаидэ.
— Ничего от нее, нет. Мне нужно петь для той, что тоскует. Вот ей.
Хаидэ чуть сдвинулась, загораживая от него Ахатту. Удивленно смотрела, как дрожит в вытянутой руке неловко взятая за раму цитра. Фития возмутилась:
— Ты что это, бродяга, ты с кем говоришь? Поклонись княгине и быстро расскажи ей, чего ты…
— Мне? Ты сказал песни мне?
Ахатта выступила вперед, жадно разглядывая смущенное лицо. Тот закивал, прижимая цитру к груди, тронул струны.
— Нет, не надо песен сейчас. О чем ты хочешь спеть мне? — мысль о будущих признаниях Цез пугала Ахатту и заставляла шарахаться от неожиданных новостей. Тот пожал плечами и заговорил нараспев, будто повторяя за кем-то неслышимым:
— О жизни, это песни о жизни. О солнце, что встает над травой, и ветре, что катит по небу тучи. О том, что утра бывают холодны, а лето согревает дыханием ночи. О том, что дорога всегда лежит перед глазами, когда ты идешь по ней, даже если туман коснулся лица. О белых тяжелых цветах и ласточках с острыми крыльями… О пчелах, сосущих отравленный мед…
— Замолчи! Прикажи ему, Хаи!
— О красных тюльпанах, чьи лепестки срывает ледяной ветер мертвой весны…
— Хаи! — Ахатта вцепилась в плечо подруги и та сделала запрещающий жест:
— Подожди, певец.
Тот послушно смолк, и застыл, полузакрыв веки, прислушиваясь к себе, шевелил губами.
— Ты знаешь его, госпожа? — шепотом спросил Техути.
Хаидэ отрицательно покачала головой. Внимательно оглядела бродягу, перебирая в голове все свои встречи — от недавних до ушедших в далекое прошлое. Тот, выше всех присутствующих, широкоплечий, с нездешними светлыми волосами, подстриженными скобкой, и короткой русой бородой, казалось, недавно жил хорошо, но штаны и кафтан, сшитые из добротной ткани, истрепались, босые ноги были грязны и вряд ли помнили о сапогах, а волосы взлохмачены и росли в беспорядке, нарушая работу кого-то заботливого, кто ровнял и расчесывал их. Похоже, не так уж давно… Он говорит — пчелы?
— Ты прибыл с караваном? Ты бродячий певец, которого выгнал Аслам?
Бродяга закивал, с облегчением улыбаясь. Прижимая руки к груди, неловко поворачивая мешающую цитру, кланялся княгине и отдельно кланялся Ахатте, смутно и с недоверием глядевшей на его суету. Потом повернулся и несколько раз поклонился Фитии. Та махнула рукой, отворачиваясь и бормоча «такой здоровый дурень, песни он поет, да на нем поле вспахать можно, вот бездельники развелось их…»
— Не ворчи, Фити. Как зовут тебя, певец?
— Убог, меня зовут Убог. На языке дороги и славного города Стенгелиса это значит, что я глупый, растерявший остатки ума. И что я только пою. Но я могу еще крыть крыши и носить мешки, госпожа. Я могу повести лошадь в ночное и я очень сильный. Ты только позволь мне петь для твоей сестры. Она тебе сестра? Ну то не главное. Я буду петь, а ты приказывай.