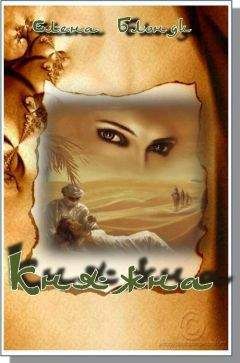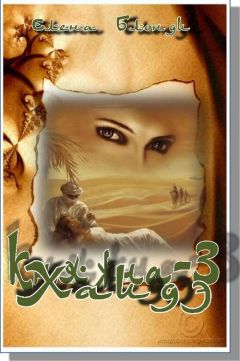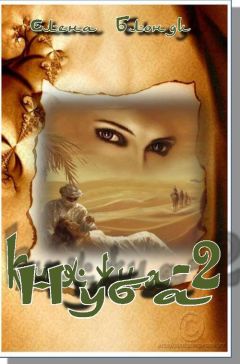— Не ворчи, Фити. Как зовут тебя, певец?
— Убог, меня зовут Убог. На языке дороги и славного города Стенгелиса это значит, что я глупый, растерявший остатки ума. И что я только пою. Но я могу еще крыть крыши и носить мешки, госпожа. Я могу повести лошадь в ночное и я очень сильный. Ты только позволь мне петь для твоей сестры. Она тебе сестра? Ну то не главное. Я буду петь, а ты приказывай.
— Я знаю, что значит твое имя. Странники всегда идут через города, среди них есть и певцы. Но если твои песни для Ахатты, то ей решать.
Все посмотрели на Ахатту. Та, еле держась на ногах от усталости, облизнула языком сухие губы. Моляще глянула на княгиню.
— Я не знаю. Я… он говорит пчелы, и я боюсь. Но я хочу услышать еще.
Техути, стоя чуть в стороне, внимательно рассматривал смутную улыбку на лице великана, напряженное и растерянное лицо Ахатты, серьезно нахмуренные брови княгини. Плавное течение жизни будто приближалось к узкой стремнине, и события, что вершились далеко и независимо друг от друга, сближались, неумолимо сталкиваясь, и натыкаясь друг на друга. Воды реки жизни несли их рядом, все быстрее и ближе. И все, что происходило, похоже, связано роком. Понимает ли это княгиня, что стоит, задумавшись, и накручивает на палец складки хитона, совсем как девчонка, для которой отражение в зеркале новых одежд — пока самое главное в жизни?
— Пойдешь с нами, — решила Хаидэ, и жрец понял — она не девчонка, и видит или подозревает то, что открыто ему.
— Иди за повозкой, в доме Фития даст тебе еды, а вечером споешь для гостей. Простых и веселых песен, понял? Не тех, что должен петь моей сестре. Ей споешь потом.
— Да, высокая госпожа. Еще я могу перекрыть крышу.
Усаживая в повозку Ахатту, княгиня рассеянно кивнула. И рассердилась на себя, когда Техути вскочил и встал перед ней, принимая поводья. Что-то важное происходит в их жизнях, наконец-то, после долгого и расслабляющего сна в покоях богатого дома. А она каждую минуту готова выбросить из головы все, лишь бы снова сидеть и ждать, когда ее колена коснется нога стоящего возницы. И в эти минуты не может думать больше ни о чем. Техути обернулся, натягивая поводья. Пока Фития умащивалась рядом с княгиней, подбирая подол, чтоб не попал под обод высокого колеса, а сидящая с другой стороны Ахатта не сводила глаз с бродяги, укутывавшего цитру в тряпицу, жрец улыбнулся сердитому лицу и прошептал:
— Это не слабость, госпожа. Это значит, тебя хватает на полную жизнь, а не на ее части.
И гикнув, погнал повозку по белой высушенной дороге среди мягко желтеющих полей.
Этой ночью Теренций почти сошел с ума, побеждая свою жену в горячей постели, и продолжал бы сходить, если бы мужская сила не покидала его. На время, радовался он, вытягиваясь с ложа, чтоб встряхнуть угасающий светильник, всего только на время. Потому что при новом небольшом свете ему довольно было повернуться, увидеть блестящее от теплого зноя и их любовных игр женское тело, и безумие снова накатывало, брало его в огромные крепкие лапы, вертело обоих, складывало и сминало, разлепляло и скручивало вновь.
— Что ты делаешь со мной, жена? — шептал, наваливаясь большим телом, дышал в мокрое ухо и слушал в ответ ускользающие смешки, а потом стоны, что понукали его, как возница понукает жеребца, достигая желанной цели.
— Ты поишь меня зельем? Твоя старая нянька готовит его тебе? А?
— Н-нет… иди… — она хватала его большую голову, пригибая к груди, и отпустив себя, мчалась, повелевая, танцевала, не различая границ, не боясь ушибиться. И ночь казалась темным бескрайним морем, с плавной, подернутой серебром лунного света зыбью. Морем без берегов.
— Может, песни шута так раскалили твою кровь? Он хорошо пел, этот Убог. У него красивое тело и приятное лицо. Уж не о нем ли думаешь сейчас? Гости остались довольны.
— Нет! — от рывков и поворотов пламя светильника прыгало и пряталось, а потом снова выглядывало из лебединого носика. Теренций жадно смотрел на ее лицо, на закрытые, как и положено в страсти глаза и полураскрытые губы. Вел рукой по мокрой груди, сжимал, слушая телом, как ее тело отзывается на ласковую боль.
— Если о нем, я убью тебя. Открой глаза, жена, быстро, посмотри на меня.
Вытягиваясь в струну и напрягая бедра, так что Теренций, не удерживаясь, сполз и рухнул рядом, не отводя глаз от ее лица, она открыла свои, потемневшие от боли и наслаждения и снова сказала:
— Нет…
И муж поверил ей. Обхватил ногами, стискивая, радуясь не уходящей мужской силе. А она, глядя в расписной потолок, жадно принимала ласки, поворачиваясь, свивалась и распахивалась, без перерыва пропуская через живот и сердце память о сильной спине и узко затянутом поясе, о горячей коже, касающейся ее колена. О том, как на худых плечах тени очерчивали вздувающиеся мускулы. Пропадали, тут же рисуя другой рисунок. И запах, его запах, после драки такой же, наверное, каким он был бы здесь…
Зарычав, муж смял ее, наваливаясь, утопил в сбитом покрывале, заерзал и обмяк рядом, все еще держа ее грудь вздрагивающей рукой. Уронил в подушки отяжелевшую голову. Еле шевеля языком, сказал:
— Я не услышал твоих криков. Ну в следующий раз, скоро.
Падая в сон, пожаловался невнятно:
— И все равно… мне кажется, будто ты привела еще кого-то. В эту… в нашу постель…
Он захрапел, рука, слабея, поползла с ее груди. Хаидэ лежала, не шевелясь, ощущая, как больно наливается тяжестью низ живота. «А скольких ты приводил в нашу спальню, муж мой. Не мысленно, а по-настоящему. О скольких узнает теперь Цез? Увидит, как это было»…
Она отодвинулась и встала с постели. Тихо ступая, прошла к окну, забирая рукой тонкую летнюю драпировку. На широком подоконнике лежали полосы и пятна лунного света, и Хаидэ повела рукой, глядя, как та становится полосатой, потом пятнистой.
Через узкое пространство за окнами спальни ей была видна стена забора, сверкающая белизной, черная ночь за ней и высокая молочная луна, мелькающая посреди тягучих живых облаков. За окном было тихо, и княгиня наклонилась, ложась на прохладный подоконник разгоряченной грудью, чтоб с высоты второго этажа увидеть пустоту под стеной дома. Луна делила мощеную полосу надвое, и у самого забора все пропадало в черной тени. А в освещенной полосе у самой стены сидел человек — княгине была видна лишь темная макушка, плечи, укрытые светлым плащом. И согнутые колени, блестящие натянутой кожей.
Она, держась вспотевшими ладонями за край, медленно склонилась еще ниже, так что волосы, щекоча, упали вдоль щек и свесились за подоконник. Он сидел тут. И слышал. И теперь она, все еще жаркая, не получив от мужчины главного, того что отпустило бы ее в сон, прижимается к мрамору горячей обнаженной грудью. Голая. Над ним.