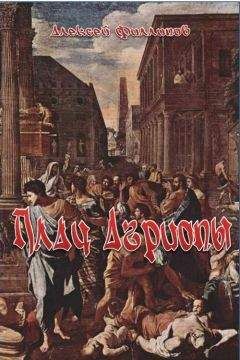- Вы должны делать то, что должны, — Людвиг не сдавался. — Какое вам дело до Стамбула и Афин? Может, там всё иначе: наказание — схожее, но наказаны люди за другое. А значит, и искупать вину им — по-другому. Может, там достаточно десятка хороших химиков: они придумают микстуру или порошок. А здесь, у нас, — только так. Только добро и зло. Только битва до конца.
- Но ты же сам уже не веришь в команду — в стрелка, алхимика, и кого там ещё… — Павел осёкся, сбавил тон. Горячность латиниста его поразила. — Дай догадаюсь… Ты считаешь стрелка — впавшим во временное безумие Третьяковым, алхимика — профессором Струве, тоже не в себе. Наверное, хороший эпидемиолог мог придумать лекарство от Босфорского гриппа даже в бреду. Или во сне.
- Я верю в вас, — тихо ответил Людвиг. — В остальных — хочу верить. И в себя. И в них. Но без вас — ничего не случится.
- Нет, — буркнул Павел. — Ты принимаешь меня за другого. Я останусь здесь. Пока меня терпят. И всё. Буду молиться — за дочку. Не умею — но буду… вдруг поможет… Останусь, пока всё не кончится… так или иначе… Что там — в Москве? Что в мире творится?..
- Не знаю, — латинист пожал плечами. — Тут люди особые, от техники почти отказались. Только по минимуму — для сельского хозяйства, так сказать. Никакого тиви, никакого радио. Про Интернет — вообще молчу. Телефоны не работают. В том числе спутниковый. Третьяков что-то мутит…. Говорит, попробует восстановить рацию в вертолёте. Завтра.
- Хорошо, — Павел пожал плечами. — А пока я пойду к дочери. Ты можешь меня проводить?
Людвиг кивнул, поднялся.
За дверью клубился туман. Дождь опять принялся сучить пряжу.
Утро занималось, светало.
Долго же чаёвничали два усталых человека.
Латинист уверенно шёл по посёлку — наверное, изучил нехитрую местную топографию за те дни, что прожил здесь. Всего и домов — десятка два. Большинство — низенькие, одноэтажные. Есть сборные, модульные, а есть и рубленые избы; последних — мало. Возле каждого жилища — небольшие садики и внушительные огороды. И те и другие — по осени — пусты; кажутся грязными, замусоренными. Хотя это не мусор, а высохшие стебли травы, ветки, насыпавшиеся с деревьев. И прочий перегной. Посреди посёлка возвышался настоящий местный небоскрёб — трёхэтажное здание с мансардой. Оно и по общей площади явно превосходило соседей: раздавалось вширь.
- Поселковая администрация, — проследив за взглядом управдома, сказал Людвиг. — А ещё там — школа, столовая, мастерские. Спутниковая связь, пока работала, тоже была там. Но нам не сюда. Баня — на окраине.
Латинист сделал приглашающий жест.
Из тумана выступила банька. Павел ожидал чего-то поскромней. Может, частной помывочной избушки. Однако экопоселенцы не мелочились: отдали под карантин вместительную общественную баню. В одном из окон горел электрический свет. Тусклый, но негасимый.
- Вот, здесь ключ, — Людвиг пошарил над дверью, — А в остальном — без церемоний. Заходят только те, кому есть, что тут делать. Остальным лезть сюда в голову не придёт. Вообще, — он слегка замешкался, — эти поселенцы — не самые плохие люди. Они ж боятся нас — до недержания. За три метра стороной обходят. А не выгоняют.
- Ну, спасибо, — Павел неловко похлопал латиниста по плечу. Вышло фальшиво. — Я один зайду. А то — может, правы те, что боятся. Мы же не можем знать наверняка…
- В десять завтрак принесут. Я попрошу, чтобы — на двоих, — успел пообещать Людвиг до того, как управдом захлопнул дверь изнутри.
Латинист всё ещё пугал его. Так, как пугает обычного грешного человека кто-то слишком праведный, или глупца — умник. Перед Людвигом не получалось лгать. Хотелось оправдываться, даже когда оправдываться — не в чем. Или закрыть дверь перед его носом и ощутить при этом что-то вроде злорадного удовлетворения.
Оказавшись по ту сторону двери, Павел ещё и набросил на неё толстый железный крюк: окопался изнутри. А если его захотят замуровать ещё и снаружи — он не будет против.
Управдом осмотрелся.
Света в предбаннике было мало. В общем-то, его источника там и вовсе не имелось. Окружающее пространство чуть освещалось белым мерцанием, струившимся из соседней каморки. Зато на длинных гладких скамьях покоились аж три большущих «полицейских» фонаря. Первый, впрочем, разочаровал управдома: не зажегся. Зато второй — полыхнул ярко.
Впрочем, пол предбанника оказался ровным; пройти по нему не составило бы труда и в полутьме. Вообще — вместо убогого узилища, каким представлялся Павлу карантин, перед глазами предстало добротное строение, к тоже же хорошо и мягко протопленное. Тепло сразу же разлилось по всему телу Павла, едва тот переступил порог поселковой бани. Доброе, ароматное, берёзовое тепло.
Управдом вступил в пределы освещённого электричеством помещения. Одна единственная лампочка — тусклая, как луна перед рассветом, едва выхватывала из темноты низкий деревянный столик, на толстых, «слоновьих», ногах; несколько длинных скамей и шайки с вениками — на них. Но там, куда почти не дотягивался свет, было самое важное, самое драгоценное: кровать — вся будто бы сплетённая из упругих ветвей, — наверное, из ротанга, — очень подходившая к здешней влажности, здешнему теплу. На ней, на высоком матрасе, возлежал человек. Маленькое тельце.
- Папка, это правда ты, или ты мерещишься? — Бабочкой выпорхнуло из угла дыхание Таньки, перемешанное с осипшим тонким голосом.
- Привет, красавица, — прошептал Павел. — Что делаешь?
- Я спала… чтоб поправиться…. - как дядя Вениамин сказал, — объяснила Татьянка. — Ты меня разбудил. Ты будешь со мной теперь, да?
- Я буду с тобой, — выдохнул Павел. — Теперь всегда буду с тобой. Только вот спать не стану. Я уже много спал. Слишком много. Я так посижу, вот тут, рядышком.
- Маму повспоминаешь? — Серьёзно проговорила дочь. — Я часто так делаю. А она мне… мерещится…
- Что ты знаешь про маму? — Павел испугался: он не был готов к этому разговору.
- Что она… будет теперь невидимой… — неуверенно ответила Танька. — Любить меня… невидимой…. Но я всё равно её вижу, когда глаза закрыты. А как открою — она… растворяется…
- Я не растворюсь, — пообещал Павел. — Ты спи, а я сделаю, как ты хочешь: повспоминаю.
***
Девчонка всхлипывала — при этом, старалась не шуметь и не привлекать к себе внимания. Она сидела на широком каменном парапете смотровой площадки Воробьёвых гор. Спиной к обрыву и панораме, лицом к высотке главного корпуса МГУ, словно совсем не желала рассматривать красоты ночной столицы с высоты птичьего полёта. Она дрожала — на ней было слишком лёгкое, слишком летнее, для последнего дня сентября, жёлто-зелёное платье с короткими рукавами, как будто пошитое из листвы. Длинные светлые волосы — растрёпаны, взгляд — несчастный. А самое главное — ноги. Её ноги были босы. Она подтянула их, оторвала от асфальта, прислонила подошвы к каменному ограждению, но вряд ли это помогало ей согреться.