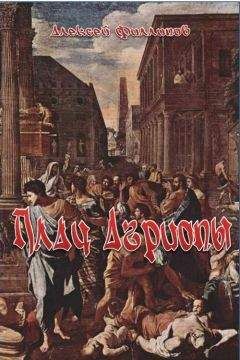Вот бы уверенность Людвига — да самому Павлу: уверенность в том, что именно управдом — сам, один, — способен возглавить эту охоту. Как-то связать воедино неувязываемое. Найти и спаять друг с другом нужных людей, предметы, обстоятельства. Как именно? С помощью странных видений? Что он может увидеть? Место, где лежат половинки мушкета, переломанного надвое странным полисменом? Технологический процесс склейки? Бред! А сам по себе, без видений, Павел — почти никто. Не силач, не охотник, не экстрасенс. Историк. Незадавшийся экскурсовод — в прошлом, никчёмный управдом — в настоящем. Никчёмность — повторяется. Это закон истории. История учит, что всё в этом мире — повторяется…
Как повторяются и эпидемии чумы…
А если что-то подобное уже было? В смысле — если уже охотились на чуму с оружием наперевес; если уже убивали её из мушкета? Может, есть и другие мушкеты? Или удавки? Или ножи?
Павел вдруг вспомнил: семнадцать семьдесят один. Так похоже на номер телефонной справочной. Год, когда свирепствовала чума в Москве. В голове пыталась оформиться какая-то мысль. Что-то из учебного университетского курса. «Ну, напрягись, управдом! — Павел едва не стукнул себя кулаком по лбу. — Зря, что ли, пять лет в универе штаны просиживал?»
Какая-то знакомая фамилия… Что-то, на уровне исторического анекдота… Что-то про любвеобильных российских императриц, заводивших себе фаворитов для утех…
Орлов! Ну конечно — граф Орлов… Он прибыл в Москву сразу после Чумного бунта, когда эпидемия была в разгаре. Надоевший фаворит. Поистрепавшийся любовник. Отправленный с глаз долой из столичного Петербурга: либо помирать, либо порочить собственное имя собственной глупостью. А он справился с болезнью за каких-то полтора месяца. Он был умником: знал немало о гигиене, изоляции и тому подобных вещах. Но и другие чиновные господа не считались такими уж болванами. А победить чуму, до приезда Орлова, не сумели.
«Я хочу видение — про светлейшего князя Григория Григорьевича Орлова», — мысленно сформулировал Павел.
Он даже зажмурился: совсем как пятилетний пацан, которому наказали ждать прихода Деда Мороза.
Не произошло ровным счётом ничего.
Только Третьяков, обернувшись к попутчикам, прокричал:
- Садимся! Площадка — за пределами МКАД. Здесь один из временных штабов Особого Комитета. — Он выставил глиссаду и повёл «вертушку» на снижение.
Управдом распахнул глаза. Железная стрекоза снижалась над унылой равниной; вдали виднелись городские высотки, но внизу никакой городской жизни — не наблюдалось. Там выстроились полукругом какие-то белые сферические купола. Прямо перед ними — такая же неправдоподобно белая — принимала воздушные суда посадочная площадка, размером с футбольное поле. Сначала на неё опустились два остроносых боевых вертолёта сопровождения, теперь дело было за Третьяковым.
Павел усмехнулся: пришпорить божественные откровения — не вышло. Видение не явилось по заказу. Забавно: неужели он всерьёз полагал, что окажется иначе? Пред ним предстанет граф Орлов и расскажет, как убить болезнь во плоти? «Имя убийцы точно знает лишь сам убийца, и тот, кого он убил», — Всплыла из глубин памяти дурацкая цитата. Павел не помнил, откуда она; пожалуй, из какого-нибудь псевдоинтеллектуального детектива.
Он хотел было ещё раз усмехнуться — тихо посмеяться над собой, — но вдруг ощутил, что не может шевельнуть губами. А потом отказало и правдивое зрение. На смену ему пришёл зыбкий мираж, начавший уплотняться с каждой секундой.
* * *
Его прозывали Митрошкой-дурачком, изредка — блаженным Митрофаном. Он был уродлив, грязен и горласт. Ходил босым — в любое время года, — и менял мешковину, в которую заворачивался с лысой макушки до чёрных пят, не чаще раза в три лета. Отчего он не подыхал, когда в Москве была бескормица; отчего держался за убогую свою жизнь, когда замерзал в Сочельник и на святки, — он бы ответил и прежде. За ради Бога. Когда Митрошка засыпал, насобирав за удачный день вдоволь хлебных краюх и медяков от сердобольных, а за дурной — зуботычин и пинков от благородных, — он видел во снах Божью матерь и самого Спасителя, в окружении сонма сияющих ангелов. Ради этих снов он жил: месил грязь, не гнушался помоями, беззубо ухмылялся, попав под сапог злонравного. Сны побуждали его подыматься поутру с убогого ложа и отправляться на паперть, или базар, или к Варварским воротам. У тех ворот, в Китае-городе, он любил отираться более, чем в других местах. К иконе Боголюбской Богоматери, сиявшей там небесным светом, многие несли лепты — большие и малые. Икона почиталась за чудотворную, потому руки дающих — не оскудевали. Иногда за день набирался целый короб денег. И часто от этих щедрот доставалась ничтожная малость Митрошке. Малость, да малость — и вот уже живот не так сводит от голода. А там уж и темнеет — пора в Царство Небесное до утра. Так и жил Митрошка-дурачок. Не счастливый и не несчастный — не знавший, как оно бывает: по-другому. Ни читать, ни писать он не умел и себя иным — не помнил.
Но в эту осень Митрошка изменился. Ох, как сильно изменился. Как будто из голодного брюха вынули нутро и заменили новым, а вдобавок умыли душу и добавили в голову умишка. Его распирало поведать о своём преображении хоть кому-то: чиновным, служивым, духовным, торопившимся мимо — но он, прежде не державший в памяти ничего, тут запомнил накрепко: нельзя. Это было — нельзя. Невозможно. Так и сказала ему та пресветлая — не дева-Богородица, не сошедшая в тёплом сиянии, и даже вовсе монашка — в чёрном платье до пят, со скрывавшим лик колпаком на голове, — но с руками, белыми, как ранний снег или хороший сахар. Митрошка никогда не видал таких рук. А уж голоса такого — тонкого и ласкового, как голос ручейка или райской птицы, — он и в дивных снах не слышал. Она пришла к Варварским воротам пешая, в одиночку. Приблизилась к юродивому, выпростала тонкую белую руку из-под чёрной ткани. Тот ожидал милостыни, но дама — а она, уж точно, была из благородных, — не молочница и даже не белошвейка, — вдруг склонилась над ним и произнесла:
- Здравствуй, Митроша.
Блаженный вздрогнул: и от благости, исходившей от дамы, и от того, что с ним заговорили ласково, и ещё от того, что незнакомка назвала его по имени, какого он и сам почти не помнил.
- Что же ты не отвечаешь, — продолжила дама. — Разве не тебя кличут Митрофаном?
- Меня, пресветлая, — сорвалось с языка дурачка.
- Что ж ты меня так величаешь, — засмеялась чёрная, — словно колокольцы прозвенели, — не по чину? Я немногим далее тебя ушла. Мы — почти сродники с тобой. Ты, да я.
- Прости, госпожа, не признал тебя, — осторожно, будто боясь быть битым, выговорил Митрошка. Какой уж я тебе сродник. Ты вон какая — аж светишься. А я — грязней пса приблудного.