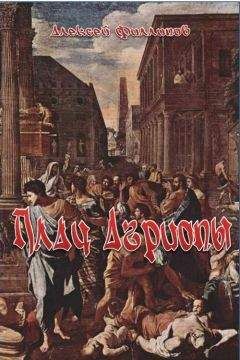До самой ночи к Богородице на поклон шли. Кого уж мор отметил — а кого только заприметил. Теснились, друг с другом мешались. Собачились, — а больше плакали и Митрошку одаривали. С горя-то щедрей, чем с радости. Уж дневной свет погас — люд не расходился. Факелы жгли, костры. А в девятом часу пополудни консисторский явился — крючок крючком, — с ним солдаты, — и объявил, что забирает Богородицу по приказу Архиепископа московского Амвросия. И короб для подношений — также, поставив на него архиепископскую печать, забирает.
Митрошка насторожился. Нельзя было людей отпускать — по домам, по коморкам, чтобы все отдельно тужили. И крикнул он: «Боголюбскую грабят!» И ещё кричал: «Архиепископ наш — Москве враг, сам из молдаван! Бейте в набат, не дайте чудотворницу на поругание!»
И опять его послушали. Народ мягкий от мора стал, — как глина: послушный. Кто сам не слышал — от других перенял. Ударили в набат, — и двинулись в одиннадцатом часу в Чудов монастырь, в духовную консисторию, суд над Амвросием чинить. Ох и народу прибыло: между Ильинскими воротами и Варварскими — сплошь головы; щерятся, качаются, орут.
Так и вломились в Кремль, в Чудов. И в дом, где живали постриженные цари. Для Митрошки — неожиданность: прежде ему в такие хоромы — хоть с поклоном, хоть без — путь заказан был. А теперь — иначе стало: другая правда на дворе. Начали Амвросия искать. Пока искали — оконницы выбили, картины и книги изодрали, на конюшне кареты и коляски в щепы разбили, в домовой церкви ризницу растащили, сосуды разграбили. Добрались и до винных погребов. Там началась потеха: расколачивали бочки с виноградными винами и черпали из них, чем ни попадя: пригоршнями, шляпами, колпаками. И хотя ходили по Чудову бесстрашно — партиями и артелями, — хотя ругали архиерея грязными словами, — найти Амвросия так и не нашли.
Приступили к монастырским служкам. Митрошка положил руку на плечо одному фабричному. Даже не сказал ничего, а тот уж принялся бедолаг пытать. Бились те, пощады просили, да и признались: видали, как Амвросий из Чудова в Донской монастырь бежал.
Кто с вина и пива английского не обессилел — отправились в новый путь. И Митрошка — с ними. Они-то мыслили: с ними, — а он был — впереди их. Над ними начальник. Он мыслишки подкидывал знатные. Крикнул: «Распустить карантинные дома!» И двери каждой тюрьмы, что не для злодеев, а для мором поражённых, — с петель срывали. А заедино и каторжников выпустили, сидевших в остроге у Розыскного приказа.
Радовалось сердце Митрошки: уж и так мор всю Москву напугал. Уж и так градоначальники по имениям своим отдалённым разбежались: ни генерал-губернатора, ни обер-полицмейстера не сыщешь. А тут ещё из карантинных домов завтрашние мертвецы вышли.
Осталось Амвросия убить. Слишком уж умён, собака: разделяет толпу, разгоняет моровых.
Пока с карантинами и острогами решали, много времени потеряли. Чуть не к утру доплелись до Донского. А там — никакой помехи: ни солдат, ни запоров. Теперь уж бунтари не тушевались: хватали служек, били и резали. И архиерея Амвросия — нашли.
Тот не сильно и скрывался: слушал обедню. Попробовали его чернецы на хорах спрятать, за иконостасом, да Митрошку — как будто видение посетило. Как вошёл в церковь — так и крикнул: «Там он, хватайте его, молодцы!» И выволокли Амвросия из укрытия.
- Позвольте напоследок к образам святым приложиться, — попросил тот.
Дали ему позволенье, не воспрепятствовали — не звери же дикие! А потом выволокли на двор. И кто-то колом по хребту ударил — архиерей аж присел — охнул и скособочился. Митрошка крикнул: «Не бить бы его в монастыре! Святое место собачьей кровью — не осквернять!» Крикнул, чтоб проверить: слушаются ли? Послушались: увлекли Амвросия за монастырские ворота, а там — один целовальник и один дворовый полковничий человек пробили ему кольями голову. Архиерей упал наземь и корчи изобразил, как припадочный. И тогда всем миром его убивать принялись: глаза прокололи, лицо изрезали, бороду выдрали, кости переломали. Быстро погубили.
Митрошка радость едва таил — едва не оглашал. Москва мором полнилась. Все под мором ходили. Каждая душонка. Каждый человечишка. И супротив болезни, изъедавшей человеческий род, не было никакой силы. Не только начальствовавшие из Москвы утекли — но и чуть не все солдаты — как конные, так и пешие — отосланы из города в Мячково село: чтоб не коснулась их зараза. Чернь всем заправляла в Москве. Чернь и мор. Митрошка слушал их голоса: «Мы теперь пьяны, а завтра своё возьмём!», — чудили подьячие. Один дворовый внушал товарищу: «Ежели бы наши господа не уехали в деревню, то я бы моего господина зарезал, а ты б своего управил». И оба затем кричали слугам партикулярных людей, забравшимся на крыши: «Что вы тут сидите, ступайте с нами!» А один раскольник — на вид неказистый — горланил: «Чернь, стой за веру, бей солдата до смерти!» Многие роптали: «живём по-немецки — вот и накликали беду на святую Москву».
Митрошка вкушал такие слова, как мёд. Его клонило в сон. И было ему вольготно и сладостно.
И вдруг кто-то огорошил: «генерал-поручик Еропкин народ рубит!»
Как громом оглушило. Завертело всех, взбудоражило. Кто таков, откуда взялся? Неужто есть сила против текучей силы, что ползёт по Москве с почерневшими от чумы губами и руками?
Начали перекрикиваться, переведываться. И вызнали вот что.
Генерал Пётр Дмитриевич Еропкин собрал потихоньку команду из всяких волонтёров. Вся она поднялась на гору от Боровитских ворот. Да и порубала там немногих пьяных, — как бы дозорных от бунтовщиков, — что бродили в обнимку с напитками архиерейскими. Еропкин и сам заколол кой-кого. А потом, проведя своих людей по тёмному ходу под Сенатом, выехал к Красному кремлёвскому крыльцу. Там — подождал маленько, да как закричит: «Конница — руби воров нещадно!» И конные поскакали на Ивановскую площадь, перед Чудовым монастырём, и начали рубить саблями народ, который пьяные бочки разбивал и веселился. Штыками, саблями, да двумя пушками прогнал Еропкин народ из Кремля. И гнал далее без жалости. И много сотен человек теперь мёртвыми лежат: на Спасском и Воскресенском мостах, под горою к Василию Блаженному, на Красной площади и в других местах.
Митрошка похолодел: так и всё дело великое загубить недолго. Касался изъязвленными руками то одного, то другого, — и заставлял служить мору. Стало не до сна. «Бейте в набат! Нам был урон, а мы сделаем новый сбор!» — кричал он сам и, одним помышленьем, приказывал так кричать всем, кто верен был мору.
И вот вокруг Кремля заголосил набат. По всем окрестным церквам колокольни, как филины, заухали: у Егория, между Тверскою и Никитскою, у Николы, что у Троицкого моста, а ещё у Николы Стрелецкого. Трёх часов не прошло — а бунт вернулся к Кремлю: прибежали и приковыляли людишки. И те, что не были посечены Еропкиным намертво, и новые, ещё без испуга. И бродил промеж них Митрошка, и каждого язвами касался. И каждому, бессловесно, прямо в голову, твердил: «Кремль вернуть надо. Не всё коту масленица. Не всё Еропкину победа. Теперь наша победа будет. На Спасские ворота навалимся. Спас нас охранит!»