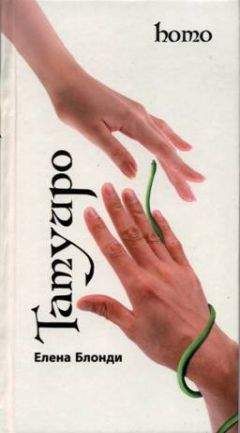Ставя на циновку пустой кувшинчик, Лада, вдруг резко устав, обмякла, ссутулившись. Хватит с неё, больше никто никогда не притронется к ней, лучше умереть. Пусть попробует, она будет кусаться. Вырвется и убежит из дырявой хижины, а там, если есть вода, — утопится, если львы, пусть сожрут…Просто жила, была замужем, а потом всё стало валиться, как дома во время землетрясения. Когда всё началось? Когда забеременела? Месяцы мучений по больницам, потом операция, и после снова капельницы, таблетки, таблетки, равнодушные медсестры, а Липыч навещал всё реже. И она в огромном халате, укрывшись больничной простыней, по ночам смотрела, как дёргается в прозрачном пустом стакане ложечка, когда по эстакаде проносились грузовики. Плакала и боялась. И начала рисовать. А потом…
— Что смотришь? — сказала грубо сквозь закипающие слезы, — никогда не видел, как п-плачут? Да пошли вы все…
Отвернулась и разревелась, прижимая ладонь к наверченной на плечо повязке. Шмыгая мокрым носом, вдруг завыла в голос, кажется, впервые с того ужасного дня, когда очнулась в палате после наркоза и узнала — нет ребенка и никогда не будет детей, а Липыч потом стоял внизу под окном, и она не могла дойти до подоконника, чтоб помахать ему. И правильно не могла, Липыч вполне с её горем справился, ведь не сам лежал и не его резали вдоль и поперек. Нащупала на животе под тряпкой заживший кривой шов и заплакала горше. Хотела говорить, но слова не шли, рвались, и только через искривленный рот голосила так, как в детстве слышала — бабки на похоронах:
— Ой-ой-ой, да что же, ыыыы… — и притихла, вся потная, с мокрым лицом, с потёкшим носом, передёргиваясь в остатках плача.
Не отклонила голову от широкой тяжелой ладони, когда дотронулся осторожно, а после стал гладить, как маленького кота. Потянул набок, и она послушно легла на циновку, держа голову щекой на его руке. Всхлипывая, успела подумать о том, что хотела спросить про туалет, а какой же тут в хижине туалет. И снова задремала, успокоенная, что он не ушёл, сидит рядом и тихонько качает на ладони её голову. Дышит.
— Сколько раз тебе говорить, Оннали, не ходи одна в лес! — гибкий прут свистнул, и девочка завизжала, не успев увернуться. Вытерла кулаком слезу.
— Ему можно, а мне?
— Он мальчик!
— Он маленький совсем, а ходит в лес!
— Мальчики бегают вместе. И они — мальчики!
Онна снова подняла прут, опустила и бросила. Поманила дочь.
— Иди, не буду больше. Ну, кому сказала?
Та подошла, опустив голову. Искоса глянула на младшего брата. Он показывал ей прижатые кулаки, насмехаясь. Мать вытащила из спутанных волос дочери увядший цветок и стала чесать их деревянным гребнем. Гребень был один, и мать не разрешала его трогать, расчесывала детей старым, из рыбьего скелета, а тут вдруг сама. Оннали стояла смирно, поворачивала голову, чтоб мать не передумала. Забыв о пруте, жмурилась от удовольствия.
— Ты уже не маленькая, через три больших воды отдадим тебя замуж. И потому говорю тебе, Оннали, старшая дочь, не ходи одна в лес, большим девочкам нельзя.
— Так ягоды, мама! Осыплется всё, а потом дожди.
— Бери брата с собой. Если с девочками идет мужчина, ничего плохого не случится.
Оннали фыркнула:
— Тоже мне, мужчина… А если вдруг лесные кошки?
— Я их убью, всех, — сказал брат и потряс игрушечным луком. Оннали засмеялась, и Мерути насупился.
— А вы не ходите тропами лесных кошек, и всё будет хорошо, — мать завертела волосы девочки в пучок, закрепила обточенными длинными шипами. Воткнула голубой цветок речного вьюнка.
— Ты у меня красавица. Выберем тебе хорошего мужа, будешь большая, как мама, будет у тебя дом, коза, поросята и куры. Хочешь?
— Д-да, — с сомнением ответила Оннали. И спросила: — А сегодня можно за ягодами?
— С Мерути, можно. Принесёте, сделаю вам пирог.
Мать подтолкнула девочку к брату:
— Идите, и не ругайтесь в лесу, нельзя.
— А почему он!..
— Оннали!
— Хорошо…
Онна посмотрела вслед детям и подошла к корзине, спрятать гребень. Это Акут подарил, на свадьбу. Пришёл, когда уже Онну заперли в праздничном доме и до утра надо было петь грустные песни и плакать. А вместо того она проделала дыру в плетёной стенке и всю ночь с Акутом — в густом кустарнике, на мягких листьях вересника. Плакала, смеялась, почти и не говорили. Акут пришел совсем хмельной, и когда зацвикали первые птицы, Онна еле прогнала его. Заделала за собой щель в стене и лежала до солнца, пока не проснулись подружки — наряжать. А потом увели к мужу. До вечера на площади все танцевали, пили пиво и отту. Онна не выпускала из кулака деревянного гребня и всё искала глазами в толпе. Акут не пришёл. А она была такая красивая. Как вот теперь Оннали.
Перед свадьбой получит Оннали новое имя и будет жить взрослой. Если только не убежит снова одна в лес, в ту сторону, где появляются тропы. За что ей такая напасть с дочерью? Наверное, за пропащую любовь к мастеру Акуту.
Онна завернула гребень в вышитый цветными жилками платок и положила на самое дно, под другие безделушки.
И чем дальше, тем сильнее похожа Оннали не на отца своего, красавца охотника Меру, а на Акута. Как такое может быть: не любились они тогда, а только, обнявшись, плакали и шептались. Онна готова была, но Акут её жалел. Послушалась. А теперь Меру иногда смотрит на дочь долго-долго, а после на Онну. И пожимает плечами. Старухи рассказывают, что такое бывает, если была очень сильная любовь. Но редко бывает. Неужто, Онне — такое? И тогда ещё страшнее становится за дочь, похожую на мастера.
Она вышла во двор, прищурилась на яркий свет. Сломалась погода, уже каждый день должен крапать дождик, сперва маленький, а потом сильнее, и затем уж — надолго. Но в этом году Большая Мать светит и светит. Вон дыр сколько в тучах и видно, что к вечеру совсем их разгонит. Понятно, детям дома не усидеть, им столько потом скучать, вот и убегают в лес. Сама такая была. И брата не было, приходилось проситься с подругами, у кого есть братья. А раз убежала одна, так мать побила крепко. Давно уже Онна взрослая, и сегодня сама прутом отходила дочку, но как вспомнит мать, до сих пор бока чешутся.
Покрошила в корыто поросятам квашеной зелени, посыпала курам зерен. Села в тени ореха трепать шерсть.
…Как же она плакала тогда! И стыдно, потому что из-за плетня смотрели мальчишки, и больно. А мать заплакала сама, бросила верёвку и увела Онну в дом. Там усадила напротив, взяв за руки. Рассказала ей то, что приходится говорить всем матерям непослушных дочерей лесных племен.