— Я… да что тут думать!
— Ну, давай я. За тебя. А что он вообще делал тут? Столько лет ни слуху, ни духу, и вдруг, куды там — демон, грызет глотки диким зверям. Молчи, дай еще спрошу.
Вытянула вверх руку и в полумраке загнула худой мизинец. За ним еще палец прижался к ладони:
— Кого любит плясунья? Демона? А ты — черного великана Нубу? А почему он — демон? Разве плохо быть настоящим? Но вдруг сделался сам ниже зверья. Если она любит демона, то ведь ты любишь человека. А люди всегда выше демонов, запомни, птичка, всегда! Потому демоны злы на людей, потому пакостят, как только находится случай. И ты готова согласиться, чтоб человек в нем умер, уступив место твари? Только потому что тебе показалось, у них любовь?
— Фити! Она добрая и хорошая. Ты хочешь, чтоб я пошла и отобрала его, решив за них сама? Он не хочет этого! Он почти убил меня!
— Демон почти убил тебя. Не путай старуху.
— Ты просто сильно меня любишь, Фити. Утешаешь.
— Ты глупа. Как влюбленная девчонка. Как Силин, когда пялится на Асета. Любишь его, дерись, чтоб стал человеком! Поняла? И если тогда он выберет Мауру, а тебя возненавидит, прими это как подобает княгине. Ты имеешь право решать!
— И за других?
— Да! Потому ты княгиня, а она добрая и хорошая женщина, которая пляшет, вызывая слезы.
— А если я ошибусь, поворачивая чужие судьбы?
— Тогда и наказана будешь ты. Тяжкий груз. Но по твоей силе.
Она погладила Хаидэ по вымытым и расчесанным волосам.
— Поспи, дочка. И пусть тебе приснится нужный сон. Такие снятся перед закатом.
— Фити… Брат. Спасибо тебе за него.
— Что ж мне. Это мужчины, искали на всех торгах и нашли. Для тебя. Не чтоб ты их прощала, а чтоб улыбнулась.
— Я улыбаюсь. Видишь?
Фития, опершись на локоть, смотрела, как перекашивается распухшее лицо, а глаза уже спят и дыхание становится ровным и глубоким.
— Вижу. Спи.
Сны, что приходят ночами, прихотливые и цветные, а то прозрачные, как талая вода, пугливы и быстры. Спящий ворочается, хмуря лоб, бормочет во сне, но вдруг резкий звук, крик ночной птицы или скрежет несмазанного колеса — и сон улетел, оставив тому, кто проснулся, тающие хлопья, в которых уже ничего не разглядеть и которые не пересказать словами. Сны перед закатом — другие. Такой сон идет, как груженый тюками верблюд, плавно и тяжко, ступает на самое сердце и, замирая, давит плоской ногой, чтоб спящий запомнил, что ему снится. Ворочаются тюки, рвутся холщовые бока, высыпая из себя возгласы, взгляды, краски и запахи. И спящий, напрягшись, широко раскрывает глаза, всматриваясь в сон. А даже если зажмурится, моля о забвении, свет уходящего солнца не позволит забыть. Кладет слой за слоем в память, как позолоту на чеканный кубок, и все линии и рельефы вспыхивают грозным отсветом.
Хаидэ лежала на боку, стиснув колени и прижимаясь щекой к вытертой шкуре. Дышала неровно, изредка тихо постанывая. — Демон Иму снова и снова гнался за ней, рыча и тяжко топая большими ногами. Хватал сильной рукой щиколотку и, падая, она поворачивалась, чтоб крикнуть ему о прошлом. Но на длинной змеиной шее подлетала к ней женская голова с веером блестящих косичек, раскрывалась хохочущая пасть, полная мелких зубов, украшенных искрами драгоценных камней. Выныривала из закатного света тонкая рука, вся расписанная злыми узорами, и, цепляясь за пальцы Хаидэ, изо всех сил подтягивала к себе, вкладывая ее ладонь в мужскую, широкую черную руку со светлой ладонью. И Хаидэ понимала, как только она ослабеет и позволит соединить себя с черной рукой, Нуба увидит ее, а она увидит настоящего Нубу. Но зачем смеется эта черная с узким лицом, зачем скалит зубы? Это не Маура. Кто это?
И, подятигая к груди колени, она стонала, отдергивая руку. Больше всего на свете желая соединиться, увидеть, и заплакав, прижаться к широкой груди, затихнуть там, защищенная, как когда-то, когда они над ручьем смотрели на синих и красных рыб…
Фития сидела над ней, задумчиво глядя, как меняется спящее лицо. Раз за разом протягивала руку — разбудить. Но Хаидэ затихала и нянька убирала руку. А потом, прерывисто вздохнув, ее птичка заснула спокойно, задышала ровно, и только морщинка между бровей залегла резко и строго, будто черта, поставленная спящей на какой-то границе.
Старуха выползла из-под шкуры и отправилась к большому костру, проверять, скоро ли поспеет похлебка.
Жрец Удовольствий, все теснее прижимаясь к напряженной спине Онторо, дышал ей в шею, сжимая пальцами грудь. И отпускал, когда она, побившись в поставленный степнячкой заслон, падала без сил — бледный мотылек с прозрачными крыльями, с которых осыпалась тонкая пыльца. Наконец, упав, уже не смогла подняться, крылья вздрогнули и замерли, распластавшись обтрепанными краями по дорожной пыли.
Раскрывая ладонь, жрец открыл ледяные глаза. Закидывая за спину белую косу, сел рядом с обнаженным телом.
Не справилась. И он не справился тоже. В схватке, когда степнячка должна была бы задрожать, накрытая высасывающим страхом смерти, пасть и раскрыться, позволяя демону взять себя, как угодно, будь то мужская победа над беззащитным женским телом, или победа над соперником, которого нужно добить, — она лишь звала его, требуя, чтоб откликнулся. И не было в ней настоящего страха. А было то, что мешает. Что же там было? Жалость к демону. И — ликование битвы. Да что с ними, с этими быстроживущими? Ее погрузили в бездну несчастий. Она ползет по окровавленным плитам и последняя опора, последняя надежда ее кидается сверху, рыча и неся смерть. А она — ликует! Как это умещается в мокром, полном крови трясущемся теле, таком хрупком. Поддень его когтем, в любом месте — вспорется кожа, вытечет глаз, кишки вывалятся петлями, и уже не починишь и не заживишь. Это молодой бог Беслаи сделал свой народ таким крепким? Они не боятся смерти. Они, видите ли, не умирают! Уходят к нему, за снеговой перевал, чтоб жить там вечно. И не просто жить, а каждый миг идти небесным воинством над облаками, помогая тем, кто еще скачет степью. Убить такого бога — завидное подношение матери тьме. Но не получается!
…Мечется посланница смерти Ахатта, чье тело напоено ядом. Удрала, не желая умереть и принести отраву своему богу. И после, будто бы помогая темноте, множа несчастья вокруг избранной, ни в одном новом деле не достигла цели.
Видящий невидимое высосал ее целиком, проглотил все картины и образы, все страхи, предательства и надежды, больше ничего нового не может она сказать, чтоб он передал им сюда. Ее можно убить, но она не найдет своего бога, а Беслаи не примет ее. Время упущено. И страданий причинить сестре она больше не сможет. Ненависть ее нечиста, в ней — любовь. Что ж. Осталось подготовить к участи матки. Неповоротливой муравьихи, заполнившей вечно беременным телом теплую пещерку в Паучьих горах. Тойры будут кормить ее, а жрецы наполнять семенем. И дети, рожденные от страстной быстроживущей и вечных жрецов, получат в награду ледяную чистоту чувств и тела, полные ядовитой крови.
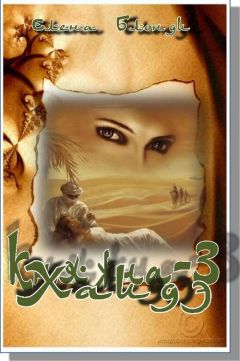
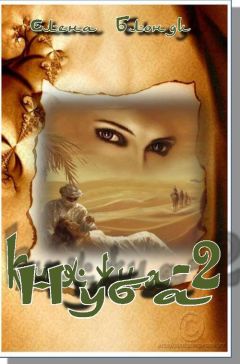

![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)

