Жрец положил руку на бедро Онторо, прикрыл глаза, представляя себе племя новых. Они встанут во главе земных племен. Будут убивать своих богов медленно, отсюда, будучи еще живыми. Растлевать племена, у которых не останется ничего, кроме стремления утолять голод тела и жажду крови. Это не ново, матки время от времени появляются среди быстроживущих. Но так совпало сейчас, что их может быть две в одно время.
Он потрепал круглое бедро, разглядывая плоский живот и небольшие груди, набухшие к соскам, будто она еще девочка, не созревшая по-настоящему.
Или — три…
Хороший улов. Жрецы Паучьих гор поднаторели в использовании изменений. И их труды приносят награду — тойры прекрасны в своей животной низости. Но и Остров Невозвращения делает свою работу хорошо. Тут все превращается в мену и товар, отравленные такой жизнью обратно уже не изменятся. Из них получаются прекрасные посланцы тьмы, такие как старый бабуин папа Карума, что продаст солнце луне и наоборот.
Он встал, подхватывая с пола одежду, облачался, застегивая серебряные пряжки и стягивая на узкой талии тяжелый пояс. Смотрел на спящую, вспоминая, как появилась она на острове, сошла с плота, дрожа и оглядываясь. И он, великий жрец Удовольствий, проведя ее через круги страданий, приблизил к себе, чтоб растить и забавляться, пока первые морщины не лягут на чистый лоб. Ей повезло. Есть еще бабочки-однодневки, некоторые очень красивы, и это такое наслаждение, убить красоту, использовав однократно и сильно. Брать медленно, зная, что каждый жест, каждый взгляд и движение — последнее, неповторимое. Но, кроме однодневок были и такие, как Онторо, что с земных двенадцати или четырнадцати лет проживали полный цикл молодости и красоты. И после милостиво исчезали, оставаясь в памяти факелом, который был зажжен и догорел, чтоб уступить место следующему.
Прекрасно быть вечноживущим. Знать, что после Онторо наступит время выбрать следующую, провести по самому чудесному отрезку ее земной жизни. А матке молодость и красота ни к чему. Пока ее тело будет рожать, оно будет жить в гнезде-рожальне. Но сумеет ли эта? Степнячка уже родила одного, крепкого и здорового. И ее мятежная сестра тоже. Они готовы принять свою новую судьбу.
Он подошел к ложу и, шелестя широкими рукавами, перевернул Онторо на спину, внимательно разглядывая неподвижное тело, долгое, как темная блестящая рыба.
Бедра узки. Жаль, что она так и не вернула себе великана. Ребенок от его семени был бы достаточно крупным, чтоб изменить ее кости. А заодно показал бы, что она справится с ежегодными родами. Придется найти кого-то здесь, из людей, прежде чем тратить семя вечноживущих.
Ленивые мысли остановились. Жрец нагнулся над неподвижным узорчатым лицом. Осторожно положил руку на холодный лоб. Потом на горло. Провел пальцами по груди, прижимая там, где должно биться сердце. И выпрямился, брезгливо вытирая ладонь о край белого хитона.
Выходя, сказал склонившейся у входа рабыне:
— Позови мужчин, пусть спустят тело в пролом ночью, к трапезе черной Кварати.
Шелестя одеждами, пошел по галерее к лестнице, что вела вниз, к центральному саду, в сердце которого собиралась шестерка жрецов.
Значит, их будет две. Нужно собрать совет и обдумать, как действовать дальше.
Он недовольно поморщился, отгоняя беспокойство.
И предупредить остальных, что главная добыча, вопреки всем несчастьям, что обрушивали они на нее, стала сильнее и научилась убивать в своих снах.
* * *
Хаидэ снилось, как узкое лицо с острыми скулами, кривя рот, полных сверкающих мелких зубов, превращается в сложенные черные крылья, покрытые серебристым узором пыльцы. Повисев неподвижно, крылья распахиваются с легким треском и, открывая вылупленные сетчатые глаза, кидают в лицо Хаидэ мягкое тельце, опушенное жгучими ворсинками.
— Нуба, — говорит она почему-то, пристально глядя в нечеловеческое, и выставляет ладонь, открытую и беззащитную, — Нуба!
Не долетев, бабочка падает. Ставит крылья торчком и, снова расправив, повторяет попытку.
— Нуба… — взгляд останавливает атаку, ладонь сгущает дрожащий закатный свет, сотворяя преграду.
И трепеща бледнеющими крыльями, бабочка снова летит на него, будто на огромное пламя.
— Нуба… — горло княгини рождает звуки, а язык снова и снова терпеливо касается ноющих зубов, чтоб передать движение губам. — Н-н-у-бба…
Прозрачные крылья еле двигаются, поднимаясь и опускаясь. И краем глаза княгиня видит рядом с собой протянутую сильную руку, медленно раскрывающую светлую ладонь. Она не поворачивает головы. Потому что не нужно сомнений. Он тут, с ней, всегда был с ней, и будет, несмотря на всех демонов мира. И произнося его имя, она не просит и не приказывает. И — не зовет. А просто касается его голосом, как когда-то лицом широкой груди, чтоб щекой услышать стук большого сердца.
Ударившись тельцем в эту уверенность, бабочка валится, бессильно перебирая лапками по легкой пыли.
— Ну-ба. Мы не умрем. И это не бессмертие демона, жрущего чужие смерти. Мы просто никогда не умрем. Если будем вместе.
Сон истончается, теряя бронзовую тяжесть закатного света, толкает ее наружу, но, глядя на неподвижную бабочку в пыли, Хаидэ понимает, нужно успеть что-то важное, что даже важнее этого нового уверенного знания о бессмертии двоих. Нужно успеть что-то понять!
И уже открывая глаза, видит: красные звезды вечернего света в прорехах плаща вдруг размываются, теряя остроту лучей. Это слезы мешают смотреть. Стекают по щеке горячими каплями, щекоча ухо и трогая прядь волос. И кажется ей — вся острота лучиков света переместилась в огромную жалость, жалящую сердце. Кто-то там, кто-то страдающий и изменившийся, испуганный, жадный и злой… Умер. Умер в попытках убить ее, или изменить навсегда.
— Я… — говорит княгиня в размытое лицо испуганной Фитии, — я… я ее убила! Только что! Няня, я убила ее!
— Это сон, птичка. Просто тяжелый сон. Что ж я не разбудила тебя, моя рыбонька, старая я коряга…
— Нет, — говорит княгиня и плачет горько, хватая старые руки, что гладят ее плечи, — нет, это сон заката. Он всегда показывает правду, ты знаешь.
И нянька молчит. Качая головой, глядит на светлую макушку своей птички. Женщины, что растет и становится еще сильнее. И ей больно, так больно от этой грозной мощи внутри себя.
Снаружи пахнет сытно и пряно, тихо разговаривают мужчины, собираясь у костров. Посвистывают ласточки, чертя узкими крыльями плотный вечерний зной, и в озерце плескает рыба, хватая толкунцов, стоящих прозрачными столбами точек.
Вытирая ладонями слезы на распухших скулах, княгиня говорит угрюмо:
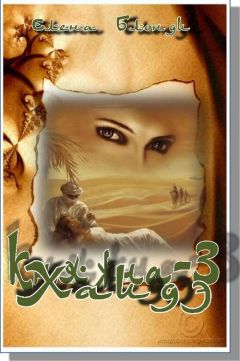
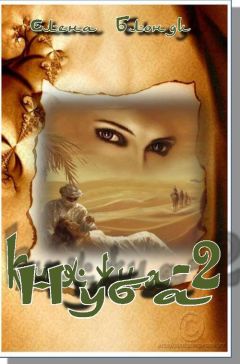

![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)

