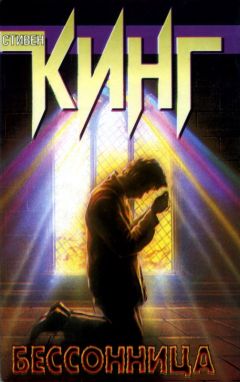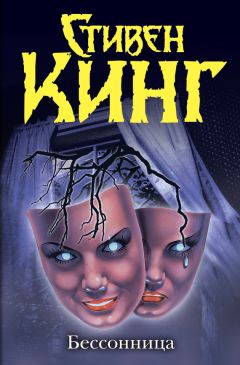Вульгарности, составлявшие ранее такую огромную часть речей Атропоса, слетели как ненужная шелуха, и в первый раз Ральф ясно ощутил, каким поистине старым, злобным и мудрым было это существо.
[Помнишь, что говорят наркоманы, Краткий: умирать легко, жить — тяжело. Верно сказано. Кому это знать, как не мне. Ну так что скажешь? Есть какие-нибудь мысли?]
Ральф стоял посреди грязной каморки, опустив голову и стиснув кулаки. Сережки Лоис в одном из них жгли его, как горячие угольки. Кольцо Эда тоже, казалось, жгло, и он знал, что ничто на свете не помешало бы ему вытащить кольцо из кармана и швырнуть в другое помещение вслед за скальпелем. Он вспомнил рассказ, который читал в школе тысячу лет назад. Он назывался «Леди или тигр?», и теперь Ральф понимал, каково бывает, когда тебя наделяют такой страшной силой и… дают такой страшный выбор. На поверхности все вроде было довольно просто: что в конце концов такое — одна жизнь против двух тысяч?
Но эта одна жизнь!..
Но ведь на самом деле вряд ли кто-то когда-нибудь узнает, холодно подумал он. Никто, кроме, быть может, Лоис… А Лоис согласится с моим решением. Кэролайн могла бы не согласиться, но они очень разные женщины.
Да, но есть ли у него право?
Атропос и это прочел в его ауре — поразительно, как много видело это существо.
[Конечно, оно у тебя есть, Ральф, — в этом на самом деле и заключаются вопросы жизни и смерти: у кого есть право? На сей раз оно у тебя. Так что же ты скажешь?]
[Я не знаю, что я скажу. Я не знаю, что думаю. Но я знаю, чего хочу: чтобы все вы трое ОСТАВИЛИ МЕНЯ, МАТЬ ВАШУ, В ПОКОЕ!]
Ральф Робертс задрал голову к пронизанному корнями деревьев потолку берлоги Атропоса и испустил вопль.
1
Пять минут спустя голова Ральфа высунулась из норы под старым склоненным дубом. Он тут же увидел Лоис. Она стояла перед ним на коленях, тревожно вглядываясь сквозь спутанные корни в его перевернутое лицо. Он поднял грязную, испачканную в крови руку, и она, крепко схватив ее, помогла ему одолеть несколько последних ступенек — сучковатые корни были больше похожи на лестничные перекладины.
Ральф выкарабкался из-под дерева, перевернулся на спину и стал глубоко вдыхать в себя сладкий воздух. Никогда в жизни воздух еще не казался ему таким вкусным. Несмотря на все остальное, он жутко радовался, что выбрался оттуда. Радовался свободе.
[Ральф? С тобой все в порядке?]
Он повернул ее руку, поцеловал ладонь и положил сережки на то место, которого только что касался губами.
[Да. Все нормально. Вот они.]
Она взглянула на них с таким любопытством, словно никогда раньше не видела сережек — ни этих, ни каких-либо других, — а потом сунула их в кармашек платья.
[Ты увидела их в зеркале, да, Лоис?]
[Да, и это разозлило меня, но… вряд ли удивило по-настоящему.]
[Потому что ты знала.]
[Да. Наверное, знала. Может быть, с того момента, когда мы впервые увидели Атропоса в шляпе Билла. Я просто старалась… ну, знаешь… не думать об этом.]
Она смотрела на него внимательно и осторожно.
[Оставим сейчас мои сережки. Что произошло там, внизу? Как ты освободился?]
Ральф боялся, что если она будет долго смотреть вот так на него, то увидит слишком много. Еще ему пришло в голову, что если он вскоре не сдвинется с места, то может не сдвинуться никогда: усталость его была теперь так велика, словно какой-то огромный, покрытый коростой предмет — быть может, давно затонувший океанский лайнер — лежал у него внутри, взывая к нему и стараясь утащить вниз. Он поднялся на ноги. Он не мог допустить, чтобы кого-то из них утащило вниз — только не сейчас.
Новость, поведанная небом, была не такой скверной, как можно было ожидать, но все же радоваться нечему — уже почти шесть часов. Жители Дерри, которым наплевать на то, как решится проблема абортов (а таких, как принято говорить, подавляющее большинство), заняты исключительно поглощением ужина. А ведь совсем скоро распахнутся двери Общественного центра и телевизионщики начнут прямой репортаж с места события. Они направят камеры прямо на проходящих мимо адвокатов и «друзей жизни», которые собрались там со своими плакатами. И кто-то вот-вот начнет повторять любимую присказку Эда Дипно, начинающуюся со слов: «Эй, эй, Сюзан Дэй, сколько убила сегодня детей?» Что бы ни предприняли они с Лоис, им нужно сделать это в ближайшие шестьдесят — максимум девяносто — минут. Часы уже тикали.
[Пошли, Лоис. Надо двигаться.]
[Мы возвращаемся в Общественный центр?]
[Нет, начнем не оттуда. Думаю, для начала мы должны…]
Тут Ральф обнаружил, что просто не сможет дождаться и услышать то, что должен произнести. С чего же, по его мнению, им следует начать? Обратно в городскую больницу Дерри? В «Красное яблоко»? К нему домой? Куда идти, если тебе нужно отыскать парочку доброжелательных, но далеко не всезнающих ребят, которые вовлекли тебя и нескольких твоих друзей в мир боли и несчастий? И можешь ли ты резонно полагать, что они отыщут тебя?
Возможно, они не хотят отыскивать тебя, родной. На самом деле они могут прятаться от тебя.
[Ральф, ты уверен, что ты…]
Неожиданно он подумал о Розали и понял.
[В парк, Лоис. Страуфорд-парк. Вот куда нам нужно идти. Но по пути мы должны сделать одну остановку.]
Он повел ее вдоль забора, и вскоре они услышали шум перекликающихся голосов. До Ральфа также донесся запах жареных сосисок, и после зловония в берлоге Атропоса этот запах показался ему нектаром. Минуту или две спустя они с Лоис вышли на край площадки для пикников возле шоссе № 3.
Там в центре своей потрясающей многоцветной ауры стоял Дорранс и наблюдал, как легкий самолет выруливает на взлетную полосу. Позади него, за одним из пикниковых столиков сидели Фэй Чапин и Дон Визи с шахматной доской между ними и наполовину опорожненной бутылкой «Блю нан» на столе. Стэн и Джорджина Эберли пили пиво и переворачивали в жаровне шампуры с нанизанными на них сосисками — Ральфу эта жаровня казалась странно розовой, как песок кораллового цвета.
На мгновение Ральф застыл там, где стоял, оглушенный их красотой — той призрачной, властной красотой, бывшей, как он думал, главной чертой Краткосрочной жизни. Ему вспомнился обрывок песенки по крайней мере двадцатипятилетней давности: «Мы — звездная пыль золоченая…» Аура Дорранса была иной — совершенно иной, — но даже самая простенькая из прочих мерцала, как редкие и бесконечно желанные драгоценные камни.