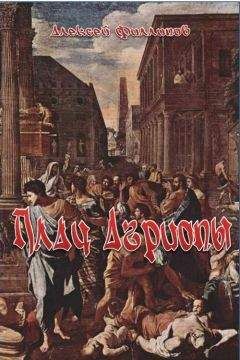Чумоборцы молчали. Не спеша перебирали ногами. Сеньор Арналдо, время от времени, покряхтывал по-старчески немощно. Тася шмыгала носом. Но большую часть пути они передвигались в тишине. В той, что иногда именуется беллетристами звенящей. В воздухе были разлиты холод, тревога и какая-то болезненная удаль. Наподобие той, что овладевает пехотой перед штыковой атакой.
Павел вывел подопечных на Чистопрудный бульвар. Вода на прудах ещё не замёрзла. Возле разгромленного ресторанного павильона, как ни в чём не бывало, плавали две утки — наверное, недоумевали, куда делись щедрые гуляки, подкармливавшие их прежде. Здание театра «Современник» не пострадало в заварушке — если не считать уроном порванные афиши. Да и те сохранились неплохо; на большинстве отчётливо читались названия спектаклей: «А. П. Чехов, «Вишнёвый сад», «А. Н. Островский, «Горячее сердце», «Альбер Камю, «Посторонний».
Возле «Современника» чумоборцам начали встречаться люди другого сорта. Не пугливые. Не отводившие глаза и не торопившиеся спрятаться в тень. Целеустремлённые, злые, а иногда — Павла изумляло это, — иногда им встречались даже весёлые. Все они были объединены общим маршрутом, и управдом не сомневался: его молчаливым подопечным и этим дерзким — стонавшим от боли и зубоскалившим от страха — было по пути.
На площади Покровские ворота уже ощущалось многолюдство. Прохожие ещё не текли рекой, но уже — как капля к капле — притягивались друг к другу.
Это было странное зрелище. Людей, двигавшихся в одном направлении, не объединяли ни цель, ни правда — лишь боль и страх, распределённые на всех. Это даже не походило на звериное водяное перемирие в засуху, из книжки о Маугли. Там хищники и травоядные направлялись к единственному на многие мили источнику жизни — их сплачивала жажда. Здесь — никто не знал, где бьёт родник, и бьёт ли он вообще: льётся ли из земли — истина. Толпа — настороженная, недоверчивая, разношерстная — шла на зов, не ведая, зачем идёт. Разобрать Кремль по кирпичу? Вытащить труп Ленина из мавзолея? Остановить куранты? Многие понимали: не при чём хитроумный политик Вьюн, не при чём зажигательные листовки. Их зовёт на сходку Босфорский грипп. Потрафить ему — значит, умножить число его жертв. Но Босфорский грипп — единственный в больном городе обладал голосом, рычавшим, как демон, и звеневшим, как набат: голосом, который был слышен каждому. И люди стекались на этот голос, потому что никто больше их не звал и не ждал. Никто больше их не любил.
Многих отчего-то притягивал вагон трамвая, сожжённый и сброшенный с рельс — лежавший на боку как раз посередине рельсового полукольца площади. Ходуны приближались к нему; перебрасывались друг с другом парой слов, облокачивались на почерневшее от огня железо, отдыхали, курили. Здесь ощущался запах дешёвых сигарет, к которому примешивались аромат элитного трубочного табака и сладковатая терпкость марихуаны. Какой-то старик — на вид совершенно здоровый, в старинной серой фетровой шляпе и чёрном драповом пальто, с аккуратно подстриженной бородкой — фотографировал перевёрнутый вагон допотопным фотоаппаратом.
Если ангелы готовились прополоть землю, избавить её от сорняков — их время пришло: перед ними колыхалось разнотравье, во всей его красе и всей неприглядности.
На Покровке и Маросейке проявилось, наконец, всё то, что едва намечалось близ Чистых прудов.
Человеческая река всё-таки сложилась: забурлила, потекла — страдальчески медленно, но неутомимо. Таких не похожих друг на друга демонстрантов и бунтарей не знала, пожалуй, ни одна из хрестоматийных революций. Здесь были уроды, обезображенные болезнью, походившие на монстров из дешёвых фильмов ужасов — и здоровяки: упитанные, с хорошей кожей и белыми зубами. Здесь были оборванцы в бесформенном тряпье вместо одежды — и модники в дорогих костюмах. Здесь были дети, старики, какие-то байкеры — без мотоциклов, но в клёпаных кожанках, с распущенными, до пояса, волосами. Здесь были матери, бесстыдно кормившие младенцев грудью прямо на тротуарах; люди с православными иконами и хоругвями; люди, на чьих плащах красовались языческие символы коловорота; инвалид-колясочник; слепец с собакой-поводырем; светская дама с перепуганным пекинесом подмышкой; целая группа полицейских, с чьих форменных курток были сорваны все знаки отличия. Здесь были все. Здесь было всё, что, до эпидемии, называли венцом природы, человечеством, цивилизацией. Сорная трава колыхалась и зябла на ветру, вперемежку с межевой колючей проволокой, яркими цветами-паразитами и скромными бутонами цветов полевых.
Возле церквей — крестились и плевались чаще, чем в прочих местах. Возле храма Троицы Живоначальной чумоборцы сделались свидетелями потасовки между хоругвеносцами и сатанистами. Возле маленькой церкви Космы и Дамиана Ассийских раздавали горячий бульон — с одной стороны, — и обливали канцелярскими чернилами — с другой. За супом могли подходить все. Передвижной кухней заведовали монахи-чернорясники. А вот по какому принципу несколько визгливых девчонок, со следами Босфорского гриппа на лицах, плечах и ногах, выбирали, кого из прохожих выкрасить в чёрное — Павел так и не смог понять. Впрочем, он не сильно и пытался: поспешил прошмыгнуть мимо двуногих чернильниц.
Он понимал: безопасней всего не чураться толпы, не обособляться. Так что бегство от вымарывательниц стало единственным манёвром уклонения, который управдом провёл по дороге. В остальное время чумоборцы, держась вместе, плыли в общем потоке. Плыли медленно. Стараясь не будоражить соседние тела-капли лишними движеньями. И всё же, уже привыкнув к ритму, вони и обличию толпы, управдом вздрогнул, когда поток с Маросейки влился — ухнул водопадом — в резервуар для человечьих тел, образовавшийся на месте Старой площади и Ильинского сквера.
Здесь устроили паноптикум. Цирк уродцев. Броуновскую толкотню частиц. Пешеходы, у которых ещё оставались силы, руками откатывали брошенные — чаще всего, повреждённые — легковые автомобили, маршрутки и даже автобусы — к тротуарам: делали простор площади и сквера ещё просторней. Люди, как будто, не сговариваясь, решили устроить здесь курилку и пикник одновременно. Их не хватало на пир во время чумы — но многие смутно осознавали: они добрели до последнего безопасного приюта. Дальше начиналась вражеская территория; дальше тянулось поле боя — кровавого, или бескровного — как пойдёт. И люди пользовались случаем: останавливались, отдыхали, оглядывались на пройденный путь, размышляли о прожитом и о смерти; о сотнях вариантов смерти: от голода, от болезни, от ножа, за родину, за любовь, за кошелёк. Пауза в движении объяснялась не только необходимостью укрепить мужество. Ей имелось и вполне рациональное объяснение. По сравнению с простором Старой площади и Ильинского сквера, улицы, по которым манифестантам предстояло пройти остаток пути до Васильевского спуска, были довольно узки. Создавался эффект бутылочного горла: из переполненной ёмкости, вбиравшей в себя человеческие потоки отовсюду, вытекали только две тонкие речки; одна стремилась вдоль низкой краснокирпичной Китайгородской стены — на Москворецкую набережную, другая — журча стонами и голосами, — вдоль по улице Варварке. Обе речки должны были слиться воедино у кремлёвских стен.