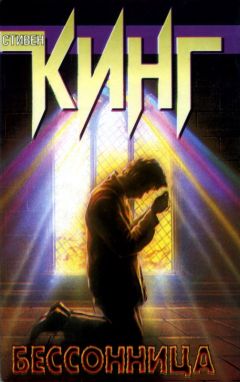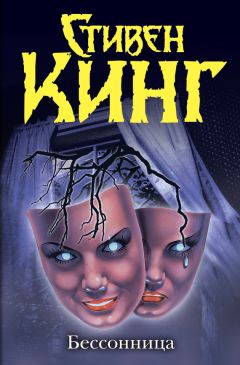Приходил зеленый человек… Он казался хорошим, но я могла ошибиться.
Он надеялся, что она не ошиблась; искренно надеялся, что нет. Потому что у него теперь не осталось практически ничего, кроме зеленого человека.
Зеленого человека и сережек Лоис.
[Ральф! Прекрати глазеть по сторонам! Смотри на свою мать, когда она говорит с тобой! Тебе уже семьдесят, а ты все еще ведешь себя, словно тебе шестнадцать и ты не знаешь, куда тебе приткнуться!]
Он вновь повернулся к твари с красными плавниками, развалившейся в кресле-качалке. Теперь в ней угадывалось лишь отдаленное и исчезающее сходство с его покойной матерью.
[Ты не моя мать, и я по-прежнему в самолете.]
[Нет, парень. Не делай ошибки, полагая, что ты там. Сделай хоть шаг из моей кухни, и ты будешь долго-долго падать.]
[Тебе не стоит трудиться. Я вижу, что ты такое.]
Тварь заговорила булькающим, сдавленным голосом, от которого позвоночник Ральфа превратился в узенькую ледяную полоску.
[Нет, не видишь. Ты думаешь, что видишь, но ты не можешь. И не хочешь. Ты ни за что не хочешь видеть меня без моих масок. Поверь мне, Ральф, ты не хочешь.]
С нарастающим ужасом он понял, что псевдомать превратилась в громадную полосатую зубатку, прожорливую хищницу с обрубками зубов, мерцающими между отвислыми губами, и усами, свисающими почти до воротничка платья, которое все еще было на ней. Жабры на ее шее открывались и закрывались, они напоминали бритвенные разрезы, обнажая нечистую красную плоть внутри. Глаза стали пурпурными и круглыми, и, пока Ральф смотрел, глазницы начали отдаляться друг от друга. Это продолжалось до тех пор, пока глаза не стали выпирать из боков, а не спереди чешуйчатой морды существа.
[Не шевели ни единой мышцей, Ральф. Ты, вероятно, умрешь при взрыве, на каком бы уровне ты ни находился — ударные волны распространяются здесь, как и в любом здании, — но эта смерть все равно будет гораздо лучше, чем моя смерть.]
Зубатка раскрыла рот. Ее зубы окружали кровавого цвета пасть, набитую какими-то странными кишками и опухолями. Казалось, она смеется над ним.
[Кто ты? Ты действительно Малиновый король?]
[Так меня называет Эд, а мы должны придумать наше собственное имя, верно? Давай посмотрим. Если ты не хочешь, чтобы я был Мамой Робертс, почему бы не называть меня Царь-рыбой? Помнишь Царь-рыбу из радиопередачи, а?]
Да, конечно, он помнил, но… Настоящая Царь-рыба никогда не была в радиопьесе «Эмос и Энди» и на самом деле вовсе не была Царь-рыбой. Настоящая Царь-рыба была Королевой-рыбой и жила в Барренсе.
2
Однажды летним днем того года, когда Ральфу Робертсу исполнилось семь, он рыбачил со своим братом Джоном и выудил из Кендаскига громадную зубатку; это случилось, когда еще было можно есть пойманное в Барренсе. Ральф попросил старшего брага снять судорожно бьющуюся рыбину с крючка и положить ее в ведро со свежей водой, которое они поставили рядышком на берегу. Джонни отказался, надменно сославшись на то, что он назвал Заповедью Рыбака: хорошие рыбаки наживляют своих собственных мух, сами копают себе червей и сами снимают с крючка то, что они поймали. Только намного позже Ральф понял, что Джонни, возможно, пытался скрыть за этими словами свой собственный страх перед здоровенным и каким-то враждебным существом, которое его младший братишка выудил в тот день из грязной и теплой, как моча, воды Кендаскига.
Наконец Ральф заставил себя схватить пульсирующее тело зубатки, бывшее одновременно скользким, чешуйчатым и колючим. Стоило ему сделать это, как Джонни прибавил ему страху, сказав тихим и зловещим голосом, чтобы он следил за усами. Они ядовитые. Боб Террио говорил мне, что если хоть один воткнется в тебя, то может хватить паралич. Проведешь остаток жизни в инвалидном кресле. Так что будь осторожен, Ральфи.
Ральф вертел тварь так и сяк, пытаясь высвободить крючок из ее темных и мокрых внутренностей, не подводя руку слишком близко к усам (не веря словам Джонни насчет яда и в то же самое время целиком и полностью веря в них) и стараясь не дотрагиваться до жабр и глаз. Специфический запах, казалось, с каждым вдохом проникал все глубже в его легкие.
Наконец он услышал жесткий треск изнутри зубатки и почувствовал, что крючок начинает высвобождаться. Свежие ручейки крови потекли из уголков ее вяло раздвигающегося, умирающего рта. Ральф испустил слабый вздох облегчения — как оказалось, преждевременного. Когда крючок выскочил, зубатка с силой дернула хвостом. Рука Ральфа, которой он высвобождал крючок, соскользнула, и кровавый рот зубатки моментально сомкнулся на его указательном и среднем пальцах. Как больно ему было? Очень? Немного? Может, вообще ни капельки? Ральф не помнил. Но он помнил исполненный непритворного ужаса вопль Джонни и свою собственную уверенность в том, что зубатка отплатит ему за свою жизнь, откусив два пальца его руки.
Он помнил, как сам заорал, тряся рукой и умоляя Джонни помочь ему, но Джонни с бледным лицом и гримасой отвращения на губах пятился назад. Ральф описывал рукой большие стремительные дуги, но зубатка вцепилась намертво, царапая и коля его своими усами
(ядовитые усы засадят меня в инвалидное кресло на весь остаток жизни)
и уставившись на него черными глазками.
В конце концов он ударил ее о стоявшее неподалеку дерево, сломав ей хребет. Она рухнула в траву, все еще колотясь, и Ральф наступил на нее ногой, вызвав еще один, последний кошмар. Сгусток внутренностей вылетел у нее изо рта, а из того места, куда угодил каблук Ральфа, вытек клейкий поток кровавых икринок. Вот тогда-то он понял, что Царь-рыба была на самом деле Королевой-рыбой и ей оставалось всего день или два до метания икры.
Ральф перевел взгляд с этой отвратительной жижи на свою собственную окровавленную, осыпанную чешуей руку и взвыл, как плакальщик на похоронах. Когда Джонни тронул его за руку, пытаясь успокоить, Ральф пустился наутек. Он бежал не останавливаясь до самого дома, и весь остаток дня отказывался выходить из своей комнаты. Почти год прошел до того, как он притронулся за столом к рыбе, и никогда больше он не имел дела с зубаткой.
До сего момента, разумеется.
3
[Ральф!]
Это был голос Лоис… но далекий. Такой далекий!
[Ты должен сделать что-нибудь прямо сейчас! Не давай ему остановить тебя!]
Теперь Ральф понял: то, что он принял за афганский коврик на коленях матери, на самом деле было ковриком кровавых икринок на коленях Малинового короля. Тот наклонился к нему над этим пульсирующим покрывалом, и его толстые губы растянулись с издевательским участием.