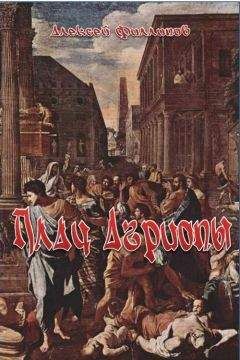«Менеджер-пастор» — комитетчик в дорогом костюме, с повадками дорогого, породистого жеребца, — не обманул: все окрестности Филёвского Парка, — а не только родной жилой микрорайон Павла — выглядели пристойно. Здесь не ощущалось ужаса. На улицах иногда встречались люди, чеканившие шаг уверенно, делово, будто шли на службу, или за покупками, как в мирные дни. Отчаяние не ощущалось — а может, просто приелось — и людям, и Павлу. От отчаяния устаёшь — так же предсказуемо и неумолимо, как от череды радостей.
Павла, Татьянку и Тасю прокатили до двора девятиэтажки с ветерком — и даже не на броне: в обычном представительском чёрном авто, с мягкими кожаными креслами, неработавшим маленьким телевизором и журнальным столиком, на котором пылились газеты полуторамесячной давности. Управдому забавно было читать рекламные объявления, испещрявшие каждую страницу. Предлагали свои услуги экстрасенсы и колдуны, телефонные компании расхваливали новые тарифы, сетевые гастрономы обещали сказочные скидки на красную икру и гречневую крупу. То, что раздражало до эпидемии, теперь казалось таким желанным, уютным и живым.
Кутузовский проспект, по которому промчался автомобиль, — молчаливый водитель за рулём гнал, как на пожар, — был практически полностью очищен от металлического лома и разнообразного хлама. Ни брошенных машин, ни следов бунтарства, вроде баррикад из мебели и покрышек. Похоже, трассу подготовили для переброски какой-то спецтехники. Подготовили на совесть.
Водитель не спрашивал адреса. Не задавал и других таксистских вопросов: где свернуть, как срезать путь дворами. Он походил на двуногий и двурукий автомат — даже лицо — невзрачное до такой степени, что Павел забыл его, как только потерял из виду. Впрочем, у управдома не было причин разглядывать водителя. Тот хорошо знал своё дело: довёз пассажиров по верному адресу — быстро, без тряски, нигде ни разу не заплутав. Распахнул дверь перед Танькой, выскочившей на волю первой, подождал, пока следом выберутся из машины Павел и Тася. Кивнул — коротко, равнодушно — не то прощаясь, как вышколенный слуга, не то дозволяя идти своей дорогой, как полицейский офицер. Сел за руль, так и не проронив ни слова, — и тронул авто с места.
Павел огляделся. В горле встал ком. Только теперь он отчётливо осознал: он разучился видеть обыденное. Разучился воспринимать его всеми органами чувств. Разучился усматривать в заурядном и обыденном — хоть какой-то смысл. Ему казалось: у него ломка, как если бы он только что пробудился от долгого и красочного наркотического сна — невероятного, страшного сна, который, всё же, стоил целой сотни реальных жизней — наподобие той, что он проживал прежде. Он видел знакомое до боли: двор с грибком детской площадки, скамью, на какой любили перемывать кости молодым жильцам любопытные старушки; даже подвальную дверь — ту самую подвальную дверь, за которой всё началось. Дверь была приоткрыта, — и в Павле всколыхнулось, всполошилось управдомское: «опять хулиганят». И он изумился этому: этой хозяйственной нотке. Откуда она? После всего? После чудес и катастроф? Да неужто — она жива? И вся жизнь — в этом городе, в этом дворе — жива? Не иллюзия, не сон, не придумка. Разве так бывает? «А разве нет? — спросил сам себя Павел. — Разве не это — норма? Разве не естественней для человека ужасаться царапине на ладони, а не пожару или войне? Вот стоит моя машина: да, это она, моя «девятка». На том самом месте, где я её оставил. Передняя фара — разбита, на двери и капоте — крупные вмятины. А сколько царапин на полировке — и не счесть! Месяц назад я бы схватился за голову: ремонта — на две пенсии, минимум. А теперь вижу — это же дворец на колёсах, в идеальном состоянии. Кто не верит — пускай погуляет по Садовому кольцу, посмотрит, что сталось с авто, брошенными там. С этими символами жизненного успеха, свидетельством, что ты состоялся как личность». Павел усмехнулся, хотя ему вовсе не было смешно. Он уже привык к сильному и огромному: несокрушимым людям, коварным архангелам, к великой цели и великой скорби. И теперь двор казался ему чем-то микроскопическим, — не дурным или дешёвым, — но ничтожно малым: чем-то таким, что возможно рассмотреть, только «сломав» от напряжения глаза. Получалось ли у него? Он полагал — получалось. Он понимал, как это важно: чтобы получилось.
Двор — почти не изменился. Как будто оставался защищённой от невзгод гаванью. В воздухе пахло гарью, но не той, жуткой, которая кружится траурными снежинками на ветру, когда сжигают трупы. Самой обыкновенной — как будто грибники развели костёр неподалёку, чтобы согреться и потравить байки. Павел бы не удивился, если бы собачница, с ротвейлером, из второго подъезда как раз сейчас выкатилась во двор ради вечернего моциона. Но у судьбы чувство юмора оказалось ещё тоньше. Дверь второго подъезда не шелохнулась, зато из двери первого торжественно и неторопливо, как на параде, выбралась Тамара Валерьевна Жбанова. Неугомонная, разлюбезная, «молодая пенсионерка» — Жбанка.
На Павла вдруг напал смех. Этакий двухлоговый дракон: сплав истерики и искреннего веселья. Он вспомнил, как убегал от Жбанки, прикрывая своим тщедушным телом «арийца», упакованного в смирительную рубашку. Как же давно это было!
Тогда Жбанка разглядела Павла издалека: она всегда оставалась глазастой бестией. Годы не умучивали её. Да и Босфорский грипп, похоже, не умучал. Она и на сей раз заметила управдома Глухова — и поспешила к нему, как тогда. А Павел и не думал бежать — он ждал встречи. Он решил: встречи со Жбанкой не избежать, как не избежать крутого поворота в судьбе. Так почему бы не сейчас?
- Паша, ты? Гос-с-споди! Живо-о-ой! Сла-а-ава Бо-о-огу! И Танюшка жива-а-а! — это Жбанка приблизилась на выстрел. На расстояние крика. И не замедлила исторгнуть из себя этот крик. И не замедлила произнести именно то, что произнесла бы на её месте любая нормальная старушка. И Павел чуть не расцеловал её вот за это: за обычность, предсказуемость, — за домашность. И ответом на это могло сделаться только одно: такая же предсказуемость, такая же обычность. Павел напомнил себе то, что, до сих пор, с трудом укладывалось в голове: «Мне здесь жить!» И проговорил:
- Тамара Валерьевна! Да вот, слава богу. А вы-то — живы-здоровы? Не тронуло вас? Не болели? Рад вас видеть в добром здравии — безмерно рад!
Павел приветствием как будто запустил некую программу. Ритуал общения, состоявший в обмене неуклюжими любезностями. Он был прост. Словно перед управдомом то и дело выскакивало диалоговое окно, наподобие окон компьютерной операционной системы, в котором — всякий раз — присутствовал один единственный вариант ответа. Несмотря на это, беседа была, в какой-то степени, информативной. Так, Павел узнал, что Босфорский грипп всё же посетил дом. Скончались шестеро жильцов. Ещё пятеро пропали без вести: были увезены военизированными медбригадами в неизвестном направлении. Большинство из них управдом едва знал, потому ему пришлось изрядно напрячь мимику, чтобы сымитировать сочувствие и не показаться, в глазах Жбанки, бесчувственным дундуком. Единственный, о ком Павел взгрустнул по-настоящему, — Подкаблучников. Вечно пьяненький и забавный столяр-индивидуал, по словам говорливой пенсионерки, был найден лично ею, во дворе, на лавочке, холодным и неподвижным. Медики констатировали остановку сердца. В этой смерти Босфорский грипп был неповинен. Так же, как и в смерти Тошика — Жбанкинова беспородного пса: помеси болонки с пекинесом. Тошик скончался от старости, хотя осиротевшая хозяйка уверяла: «от нервов». Но вдруг Павел насторожился. Тамара Валерьевна сошла с проторенной колеи беседы и полезла в какие-то дебри.