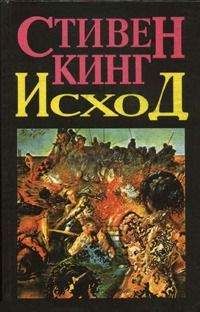Она стояла у раскрытого окна и смотрела на него. Влажный ветер раздул белую штору, опустив ее на лицо Элис, но не полностью скрыл его, а лишь сделал его очертания туманными, как у привидения. В окно доносился шум уличного движения. Она достала носовой платок из-за лифа своего платья, подошла к столу и положила платок на его опущенную руку. В Ларри была какая-то твердость. Она могла испытывать его, но до какого предела? Его отец был мягким, уступчивым человеком, и в глубине своего сердца она знала, что именно это свело его в могилу. Макс Андервуд разорился в основном из-за того, что занимал кредиты, а не потому, что брал их. Итак, когда же появилась эта твердость? Кого должен благодарить Ларри? Или обвинять?
Слезы не могли изменить этой проявившейся твердости его характера, точно так же как и летний ливень за один раз не может изменить форму скалы. У такой твердости были свои преимущества — она знала это, должна была знать как женщина, в одиночестве воспитавшая мальчика в огромном городе, где так мало заботятся о матерях и еще меньше об их детях, — но Ларри еще не понял этого. Он был тем, кем она и сказала: все тем же прежним Ларри. Он так и будет жить, не задумываясь над тем, что впутывает людей — включая и самого себя — в неприятные ситуации, а когда дела станут совсем плохи, будет обращаться за помощью к этому твердому стержню, чтобы выпутаться самому. А что же другие? Он будет оставлять их тонуть или выплывать самостоятельно. Скала вынесет многое, такая же выносливость была и в его характере, но он по-прежнему использовал ее только для разрушения. Она заметила это по его глазам, это читалось в каждой линии его фигуры, в каждом движении… даже в том, как он подкидывал свою канцерогенную палочку, чтобы получались кольца дыма. Он никогда не превращал этот свой стержень в стилет, чтобы поражать людей, а это уже хоть что-то, но когда возникала потребность, он все же прибегал к его помощи, как это делает ребенок — как к дубинке, чтобы выпутаться из ловушки, которую он сам же себе и устроил. Однажды она сказала себе, что Ларри может измениться. Она сказала: он сможет.
Но перед ней сидел вовсе не мальчик; это был вполне взрослый мужчина, и она испугалась, что его дни изменений — глубоких и основательных, которые ее духовник называл изменениями души, — прошли. В Ларри было нечто, заставлявшее горько сцепить зубы, как при проникающем внутрь звуке царапающего по школьной доске мела. Ларри был погружен в себя. Единственный, кого он пускал в свое сердце, был только он сам. Но она любила его. Она также подумала, что у него все в порядке, с ним все хорошо. Но это не имело никакого отношения к его минутной слабости. В этом не было никакой катастрофы; был только ее плачущий сын.
— Ты устал, — сказала Элис. — Вытри слезы. Я передвину ящики, а потом ты сможешь поспать.
Она прошла по маленькому коридору в его прежнюю спальню, и Ларри услышал, как она ворчит там, двигая коробки. Он медленно вытер глаза. Уличный шум долетал из окна. Ларри пытался вспомнить, когда плакал перед матерью в последний раз. Вспомнил о дохлом коте. Он устал. Никогда еще он не чувствовал себя таким уставшим. Он упал в постель и проспал почти восемнадцать часов.
Уже вечерело, когда Франни вышла в огород, где ее отец терпеливо пропалывал горох и фасоль. Она была поздним ребенком, ее отцу было уже за шестьдесят, пряди седых волос выбивались из-под бейсбольной кепки, которую он постоянно носил. Ее мать отправилась в Портленд покупать белые перчатки: Эми Лаудер, лучшая подруга детства Франни, выходила замуж в начале июля.
Франни с любовью смотрела на склоненную спину отца, наслаждаясь идиллической умиротворенностью предвечерья. В это время суток свет приобретал неповторимое очарование неопределенного времени, свойственное только этим быстротечным мгновениям раннего лета в Мэне. Она как-то вспомнила об этом особенном свете в середине января, и сердце ее защемило от тоски. Свет этого раннего лешего вечера, уже ускользающий в темноту, ассоциировался со многими приятными вещами: бейсбольными матчами в Литл-Лиг-парке, где постоянно играл Фред, арбузами, молодой вареной кукурузой, чаем со льдом в запотевших стаканчиках, детством.
Франни слегка кашлянула:
— Помощь не требуется?
Отец, обернувшись, улыбнулся:
— Привет, Фран. Твоя мать вернулась?. — Он нахмурился, но потом его лицо прояснилось, — Да нет, она же уехала совсем недавно. Можешь запачкать руки, если тебе так уж хочется. Только не забудь потом их вымыть.
— Руки женщины говорят о ее привычках, — скорчив гримасу, произнесла Фран, а потом фыркнула. Питер попытался придать своему лицу неодобрительное выражение, но это ему не удалось.
Она присела у соседнего рядка и стала полоть. Весело чирикали воробьи, с шоссе № 1, проходившего в квартале от их дома, доносился гул. Он еще не достиг такой громкости, как в июле, но все же был достаточно силен.
Питер рассказывал о своих делах, а она задавала ему вопросы, кивая в нужных местах. Увлеченный работой, он не мог видеть ее кивков. Но боковым зрением он мог уловить, как кивает ее тень. Он работал водителем в крупной автомобильной фирме в Санфорде — самой большой автофирме к северу от Бостона. Ему было уже шестьдесят четыре, оставался всего год до пенсии. Даже неполный год, потому что ему полагался четырехнедельный отпуск, который он собирался взять в сентябре, когда все «пришельцы» разъедутся по домам. Он все время думал о пенсии. Он пытался не смотреть на это как на вечные каникулы, говорил он ей, у него много приятелей пенсионного возраста, так вот они говорят, что это вовсе не так. Он не думал, что будет так же скучать, как Эрлан Эндерс, или так позорно бедствовать, как Кэроны — бедный Пол всю свою жизнь с утра до вечера торчал в магазине, но все-таки они с женой были вынуждены продать свой дом и переехать жить к дочери и ее мужу.
Питер Голдсмит не надеялся на социальное обеспечение, он никогда особенно и не верил в это, даже в те дни, когда система еще не начала разваливаться под давлением спада производства, инфляции и постоянно увеличивающегося числа мошенников. В тридцатых и сороковых в Мэне было не так уж и много демократов, говорил он внимательно слушавшей его дочери, но ее дедушка принадлежал именно к этой партии, и, к счастью, ее дедушка и из ее отца сделал демократа. Во времена процветания Оганквита это сделало Голдсмитов кем-то вроде парий. Но у его отца была одна поговорка, камня на каше не оставлявшая от философии республиканцев штата Мэн: «Не следует доверять сильным мира сего — они могут послать тебя к черту, как и их правительство, даже в день второго пришествия».