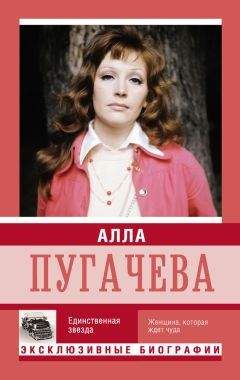— Пойду пройдусь, — поднялась я, убирая термос. — По маленькой.
Земля усыпана сосновой хвоей, она бурая, толстая и мягкая. Даже ноги вязнут. Солнце пробивается сквозь далёкие вершины пучками света, словно с неба направлены прожекторы. Красиво. Утро в сосновом бору, Шишкин.
Поссала. Какое сильное и торжествующее русское слова — поссать! На всё поссать. На всех. Нет, не простаками были древние русичи. Знали яркие звуковые комбинации для рядовых действий.
Откуда-то сбоку — а не послышалось ли? — донеслась до чуткого слуха (два года в музыкальной школе, успехи, похвалы — нет-нет, мама, с меня хватит!) песня. Да, определённо песня.
— Родительский дом — начало начал, — исполнял кто-то и вроде бы на два голоса. — Ты в жизни моей надёжный причал…
Двинулась на звуки. Через пару минут очам предстала прелестная картина. Окраина кладбища. Самая-самая, даже на отшибе. На пеньке сидит вешнеключинский поп — как там его? отец Павел, нет? — в штатском, так сказать. Глаза осоловевшие, на устах улыбка чрезмерно жизнерадостная. Сидит и поёт. Перед ним, спиной ко мне — мужик могилу копает. Подпевает, но с перебоями, видимо все усилия на копку уходят. По характерным угловатым и неуверенным движениям узнала Егора Пахомова. Он и есть. Словно почувствовав меня, обернулся. Тоже взгляд хмельной.
— Све-е-ета! — потянул он, но как-то не особенно радостно. — Долго жить будешь, дочка! Паш, это дочурка моя!
— Да ты что! — удивился поп. — А-а, ну да, ну да, вы же с Надькой дружили в своё время. Вот ведь, а я и не знал.
— Наукой это не доказано, — подошла я к краю могилы и заглянула внутрь. Ну, работы ещё предостаточно. — А что, кто-то умер?
— Не-а! — хохотнул отец Павел. — Просто наш Егорушка с ума сошёл. Могилу себе роет.
— Может себе, — Пахомов, показалось, заработал усерднее, — а может и кому другому. Представляешь, Света, сорок лет прожил и никогда о переходе в иной мир не думал. Ну, так если, опосредованно. А сегодня вдруг проснулся и со всей очевидностью, с ужасом со всем осознал всю бренность жизни. Прямо как мешком по голове ударили! Жуткое ощущение.
— Просто к богу движешься, — объяснил отец Павел. — Меняешься. Раньше церковь за версту обходил, а сейчас — примерный прихожанин. Одноклассник он мой! — повернувшись ко мне, объяснил он зачем-то.
— Понял, — продолжал Пахомов, — что должен что-то сделать. Подготовиться как-то к расставанию с жизнью. Символически. Даже думать не пришлось — сразу осенило. Могилу надо рыть! Пусть она ждёт меня пять лет, десять, пятьдесят — а я за ней ухаживать стану. Присыплется если — расчищу, дождик пройдёт — воду вычерпаю. А если кому она нужнее окажется — пожалуйста, уступлю. Не жалко. Вырою себе другую.
— Это случайно не дедушка Солженицын завещал? — спросила. Старалась быть серьёзной, ей-ей.
— Да нет, доченька, это жизнь сама завещает, — выразительно и патетично ответил прозревший директор школы. — Ты читала хоть его?
— Не-а. Не смогла. Скучно.
Пахомов перестал копать, оперся на лопату и, выразительно посмотрев на меня, произнёс:
— Александр Исаевич — это совесть наша!
Я деликатно покивала.
— Да, да. А ещё Андрей Дмитриевич!
Он не отреагировал. Вновь принялся за копку.
— По-моему, это белая горячка! — наклонившись к попу, прошептала я ему на ухо.
Тот хохотнул, но тут же постарался заглушить исторгшиеся из груди децибелы.
— Да пьяный просто! — отозвался он так же шёпотом. И вновь затянул: — Роди-и-ительский дом, нача-а-ало начал…
— Ты в жи-и-изни моей, — подхватил дядя Егор, — надё-о-ожный причал…
Русские люди, у них такая логика. Ты ему говоришь — белая горячка, а он в ответ — а-а, пьяный просто. Словно одно из другого не вытекает.
Побрела обратно — и тут меня принакрыло всё же. Смерть, распад, отсутствие… Бррр. И с чего вдруг, вроде такой бодрой была? Не надо себя испытывать кладбищами, против человеческой сущности не попрёшь. Страх не победить.
— Вы всё? — дед с тётей Мариной сидели в сторонке от прибранной могилы, умиротворённые, стаканы уже пустые. — А то я пошла.
И они как-то чересчур послушно зашевелились, поднялись, собрались. Даже слова поперёк не произнесли.
Весь вечер сердце ныло. И на следующий день. Вроде всё как прежде — а что-то поменялось. Напряжение в воздухе. Тоска. Откуда она берётся?
Пыталась заглушить чтением — только хуже. Допоздна смотрела телевизор — на фильме «Один и без оружия» вроде успокоилась. Бандиты, перестрелки, очень простое, чёрно-белое понимание мира, от которого приободряешься и чувствуешь, что жизнь ещё не исчерпана пытливым сознанием, что она не против твоего существования. Лица освежающие.
А потом зачем-то взялась смотреть по областному телевидению «Пять вечеров» — и захотелось удавиться. Сдавленные пространства одной-единственной квартиры, два с половиной персонажа, постоянная ночь или как минимум сумерки. Спутанная геометрия эмоций и понимания жизненных задач. Каждый кадр вопит тебе в лицо: «Жить незачем!»
И зачем-то до конца пялилась. Храбрую изображала. Сильную. Справлюсь, думала.
Не хотелось, сдерживалась, но всплакнула. Все пятнадцать лет своей чёртовой жизни борюсь с жалостью к самой себе — и не могу победить. Слишком юна — поэтому — организм не тренирован. После тридцати должно стать лучше. Если доживу.
Я истеричка и психопатка, это понятно. В этом и плюсы свои, однако. У меня больше путей к отступлению, я вариативна. Когда совсем плохо станет — могу родить новые, совершенно невиданные желобки для откачки эмоций. Так обнадёживаю себя.
Но вообще-то ничего хорошего в этом нет. Любая ерунда способна выбить из колеи. Как сейчас. Даже не могу разобраться, в чём причина. Какая-то периферийная мысль, отголосок забытого чувства, оттенка его — и всё, я в ауте.
— Что-то не так идёт! — растирала глаза на толчке. Специально в туалет спустилась, чтобы дед не заметил. Сама не понимала, что имела в виду — то ли нынешнюю авантюру, то ли жизнь целиком. — В чём-то ошибаюсь. И ещё хуже будет. Я плохая. Я грешница. Природа совершила ошибку, произведя меня на свет.
Тут же пыталась себе возразить, найти объяснение и выход, быть сильной, но очередная беспощадная волна накрывала с новой силой. Разрыдалась в голос. Лишь бы дед не услышал.
Плач очищает организм от шлаков. Снимает напряжение. Я читала.
И полегчало. Хоть на чуток — но и то хорошо.
А глубокой ночью, когда дед вовсю храпел, поднялась с кровати и на цыпочках пробралась к холодильнику. У него там початая бутыль с самогоном, старик время от времени отхлёбывает. Ни разу не напиваясь — он молодец и редкий по деревенским меркам тип. Так вот, налила себе чуть ли не половину гранёного стакана и залпом накатила. Пошло нормально.