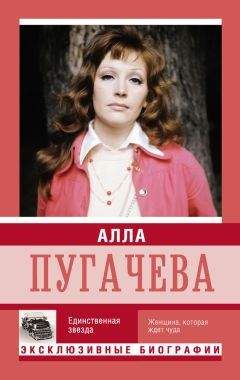ОТКРОВЕНИЯ СВОЛОЧНОЙ БИБЛИОТЕКАРШИ
Село бурлит, казалось мне. Село как растревоженный улей. Люди снуют от дома к дому и пересказывают трагические события прошедшей ночи. О да, они заслуживают людских пересудов: вооружённое столкновение двух… как бы правильнее выразиться… национально-преступных группировок. Да, одна национальная, другая преступная. Нет, одна национально-преступная, другая просто преступная. Впрочем, неважно. Главное, что была сеча, были выстрелы и огонь.
Вот сейчас я выберусь на улицу — и меня окружит толпа деревенских зевак. «Что там было, Бойченко?» — станут они тормошить меня, перекрикивая друг друга. «Что ты испытала?» «Как смогла выжить?» Не исключено, что у меня возьмут интервью — правда, потом засекретят его и кроме членов ЦК КПСС мои показания никто не узнает. А возможно — и вот это действительно неприятно — меня увезут на чёрном воронке прямиком на Лубянку, где в течение долгих месяцев я стану давать показания об антисоветском восстании в Нечерноземье: ведь правоохранительные органы будут трактовать его именно так. Через десять лет, измученная, но закалённая я выйду на свободу, напишу документальную книгу, в которой изложу всю правду о событиях, свидетельницей которых мне довелось стать, её выпустят на Западе, она станет сенсацией.
Однако с какого хрена ей становиться сенсацией, ведь это не антисоветский мятеж? Ладно, Лубянка отменяется, но повышенный интерес сельчан обеспечен.
Ага, держи карман шире! Если кому в этом мире всё по барабану, так это вешнеключинцам. Страна дураков — одно им название.
— Ты куда? — строго так ещё вопросил меня дедушка, когда я наружу лыжи навострила, а я ещё этак независимо плечами повела — мол, не удерживай меня от благородной миссии донесения правды до людских умом — и через дверь выпорхнула, да только никакого оживления не встретила.
Шёл четвёртый час, кстати говоря. Поспала знатно.
Никаких кружков, никаких приглушённых разговоров. Улицы полупустые. За руку никто не хватает, тайну не выпытывает.
Две тётки на скамейки посиживают, подошла.
— Что там про вчерашнее слышно? — спрашиваю.
— Ты про резолюцию ООН, доченька? — это они мне отвечают, покарайте меня громы небесные. — Про Ирано-иракский конфликт и требование прекратить боевые действия?
— Не-а, — головой мотаю, радуясь за политически подкованных сограждан, — я про конфликт в цыганском таборе. Неужели выстрелов не слышали? Да и зарево наверняка виднелось.
— А-а, это, — скучная будничность касается простых крестьянских лиц. — Ну да, куражились ромалы. Только ведь это каждую неделю они так. И куда только власть смотрит? Почему не выселят их в соседнюю область?
Всё с вами понятно.
Пошлялась ещё с полчасика — глухо. Народ в неведении. И въезжать не собирается.
Шабашников, однако, на улицах не видно. Отлёживаются.
Алёша на глаза попался, слава тебе господи! В своём репертуаре — словно в воздухе нарисовался. Вот этот обеспокоен и некоторым образом в курсе. Я ему обрадовалась.
Я ему всегда рада, конечно. Он милый и мы влюблены друг в друга — не стоит забывать. Но пообщались коротко.
— Ты была там что ли? — спросил он приглушённо.
— Была.
— Я так и знал. Шабашники наехали?
Вот, всё знает человек.
— Они самые. Ну а ты что слышал?
— Да ничего особенного. Знаю только, что жертвы есть. У шабашников пара раненых, они весёленькие, бухали с утра, а у цыган и трупы имеются.
— И что они?
— Ну а что они? Снимутся, должно быть, и уедут. Что ещё делать-то? Победил председатель. Вскорости и за Куркина возьмётся.
И исчез.
Алёша, хотела я ему крикнуть, куда же ты? Мне так обнять тебя хочется, к груди твоей прижаться. Поцеловать тебя в рот красивый, заячий. Я же запала на тебя, человек мой дорогой, быть с тобой хочу постоянно.
Поедешь со мной в город, любимый?
— Здравствуйте, Людмила Тарасовна! — кивнула библиотекарше. — Книги прочитала, завтра сдал. Новых поступлений не было?
— Света! — нервно, истерично схватила она меня вдруг за руку и потащила за собой.
Отвела на десять метров и остановилась. Зачем — непонятно. Всё равно посреди дороги остались.
— Я долго тебе собиралась это сказать, и ты меня ни за что не осуждай! — забормотала она, глядя на меня широко открытыми и пугающе взбудораженными глазами. — Я понимаю, что всё это станет для тебя шоком, но ты должна узнать правду. Какой бы горькой она ни была.
Не люблю неадекватных людей. Всю жизнь бегу от неврастеников. Они чрезвычайно опасны. Могут надолго выбить из колеи, а то и вовсе заразить психозом. Любой ерундой. Это опасно. Надо оставаться трезвой и рассудительной. В библиотекарше, судя по всему, я несколько ошибалась. Она казалась мне разумнее.
Но стояла, ждала.
— В общем, слушай и сама решай, что с этим делать, — продолжала та вывалить на меня килограммы нервозности. — Потому что с этим надо что-то делать. Такое в голове не укладывается. Короче, твой отец — вовсе не тот, на кого ты думаешь. Не Егор, хоть сам он и готов считать тебя дочерью. Он с придурью, не обращай внимания. Твой настоящий отец… — о, эти долгие, многозначительные паузы, за которыми следует туфта и глупость, сколько же вам длиться? — твой настоящий отец — это твой дед.
Проговорив это, она собралась уйти. Но тут же опять развернулась ко мне лицом.
— Ты, может быть, не поняла меня, ты ещё маленькая, но, я думаю, уже знаешь, как дети на свет появляются. Да, Света, твой дед делал это самое с твоей матерью. Поэтому она и уехала из села. Поэтому ни разу не приезжала его навестить… Я случайно узнала об этом. Прости меня, пожалуйста.
Она торопливо зашагала прочь. Я тут же принялась вспоминать пластинки из домашней коллекции и без затруднений воссоздала всю последовательность песен на первой попавшейся.
— Поёт Анна Герман, — шептала тихо. — Ленинградский завод грампластинок. Первая сторона: «Когда цвели сады», «И меня пожалей…», «Осенняя песня», «Письмо Шопену», «А он мне нравится».
Не спеша побрела к дому.
— Сторона вторая: «Из-за острова на стрежень», «Любви негромкие слова», «Далёк тот день», «Колыбельная», «Вы хотели мне что-то сказать». Все считают, что у Герман зарубежный шарм, а мне кажется, что она простушка.
Тётушки, что так обеспокоены Ирано-иракской войной, всё ещё на своём месте.
— По просьбам трудящихся, — объявила им, — исполняется песня Владимира Шаинского на стихи Михаила Рябинина «Когда цвели сады». Дурма-аном сла-адким ве-э-яло, когда-а цвели-и сады-ы, когда одна-ажды ве-эчером в любви-и призна-ался ты…