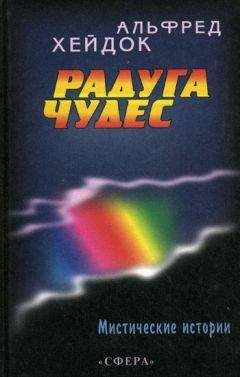— А теперь, — продолжал племянник, — умершая является к старшей сестре. Та в безумном страхе начинает метаться по комнате с криком: «Вот, вот она!» — и указывает на пустой угол, где никого нет. Потом она падает и начинает выкрикивать страшные угрозы и ругательства в свой собственный адрес, то есть ругает самое себя.
— Ты дрянь… Из-за тебя умер мой ребенок… Ты и меня в могилу загнала… Но и ты теперь недолго будешь жить — я тебя уволоку туда же, где сама нахожусь… Дрянь! Последняя дрянь… Не уйдешь теперь ты от меня!..
Выкрики прерываются рыданиями; наконец больная в полном изнеможении засыпает…
Через месяц я еще раз получил плату через «вратаря», а также предупреждение, что госпожа вынуждена прекратить уроки.
Я ушел, зная, что за оградой серого дома продолжается борьба двух женщин, живой и мертвой, и что иллюзии старого высокого и худого человека, всю жизнь накапливавшего богатство и построившего себе, как ему казалось, изолированный островок личного счастья среди страстного, взбаламученного людского моря, обманули его, как до этого обманывали многих…
И чем дальше я уходил от серого особняка, тем больше осознавал, что для счастья человеческого не нужно строить оград, отделяющих от других людей, а, наоборот, нужно их разрушить и раскрыть душу в любовном объятии всему миру…
… Опять сажусь на своего любимого «конька», буду писать[22] об этих, которые живут с нами, но невидимы; для начала — вот еще один рассказ «из первых рук». Наша знакомая Е. К. мне (на улице) рассказывала, что однажды, когда еще была подростком, она сидела одна в комнате и вдруг увидела, как в открытую дверь вошло существо ростом с аршин, мохнатое, со старческим, но вполне человеческим лицом. Перебирая руками край кровати и двигаясь вдоль ее, старичок сердито фукал, очень тихо, но явственно, затем мохнатик пропал. Больше она никогда его не видела.
Еще одно свидетельство. Рассказывала Ю. Ф., работница из пошивочной мастерской. Ю. Ф. с матерью жили тогда в Башкирии, в большом селе кругом дебри, непроходимые леса… Женщина пошла в лес по грибы, нашла урожайное место, но заблудилась. Плутала, плутала, видит — дело плохо; день клонится к вечеру, придется в лесу ночевать… А спичек нет, и зверья всякого много. Села горемычная на пень, закрыла лицо руками, заплакала. Отнимает руки — в трех шагах стоит маленький и тощий, как кукла, старичок: весь зеленый, и лицо, и борода, и одежда из листьев. Смотрит на нее и показывает палкой в сторону. И исчез. Женщина говорит, что ничуть не испугалась, а сразу поняла. Пошла, куда старичок показал, и вышла на дорогу.
* * *
Все эти существа безобидны, безвредны и беззащитны, так как не могут защищаться. Леса вырубаются, и гномы исчезают. Домовым негде жить; они привыкли жить за печкой, а не за отопительной батареей; их тоже становится все меньше…
Вот какую философию я завел, конечно, «ненашенскую», нематериалистическую. Но все здорово интересно.
23.11.70 г.(Из письма далекого друга)Мамин отец жил в 1929 году уже в Варшаве. Мама переписывалась с ним изредка. Дедушка очень любил меня. Вообще письма от него были праздником для нас, отделенных непроходимой стеной. Но письма все же доходили. Очень, разумеется, осторожно и тактично написанные. Мне делали маленькую операцию, делали ее дома. Мама помогала при наркозе. Мама очень волновалась и переживала за меня. Еще спящую, меня положили на кровать. Врач и сестра ушли, и мама с моим мужем (я только что вышла замуж, семнадцатилетняя дурочка) ушли в кухню. Сели они по обе стороны угла кухонного стола и стали тихонько разговаривать, время от времени замолкая и прислушиваясь, не проснулась ли я, не позвала ли. Случилось это 11 февраля, в семь часов вечера. Прошло недели две. Мамочка лежала, отдыхала; мы — Володя (брат), я и мой муж — сидели около нее, а отчим тут же за письменным столом работал по обыкновению вечерами, ибо бухгалтерская работа не умещалась в рабочий день. Вдруг звонок. Володя побежал и вернулся, приплясывая: «Письмо от дедушки!». Начали читать, и, дойдя до одного места, мама и мой муж вскрикнули одновременно. Мама прочитала (слова эти помню дословно): «Дорогая Люлюшка, если помнишь, что ты делала часов, в семь вечера 11 февраля, напиши мне, ибо со мной произошло странное явление. Что я не спал, в этом уверен, так как расхаживал по комнате в ожидании скромного ужина, и вдруг увидел тебя где-то далеко-далеко, сидящую у угла стола, с кем-то разговаривающую и к чему-то чутко прислушивающуюся. На душе у меня стало очень тревожно, и я весь вечер думал о тебе и о моей маленькой внученьке. Напиши, пожалуйста, что у вас случилось?»
Мама сразу же ответила на это письмо, и в ответ получила от дедушки письмо на 30 листах, исписанных его бисерным почерком, где он нам объяснял явления телепатин, ссылаясь на многие научные авторитеты. Дедушка был очень образованным человеком с широкой эрудицией. Был атеистом, но не воинствующим, а здравомыслящим и никому не навязывал свои убеждения.
Потом спустя год-два произошел с ним же другой случай. Мама как-то вечером долго думала об отце, плакала, потом, отложив все дела, достала из сундука все письма, за всю жизнь полученные от отца и хранимые, и читала и вспоминала всю жизнь по этим письмам — до утра. Получив очередное письмо от отца, узнала, что он в тот же вечер проделал то же самое с мамиными письмами, перечитывая все ее письма начиная с детских каракулей до последних месяцев. У мамы с ее отцом была всегда очень прочная духовная связь.
У меня в жизни тоже было множество случаев мелких и более крупных, когда я знала и чувствовала, когда с близким мне человеком происходит что-то. А вот в Донецке, когда Миша лег на операцию, случилось странное. Мне сказали, что после четырех рентгенов выяснилось — у него бесспорно рак желудка, и я настояла на операции. Должны были делать в 10 утра. Я накануне страшно волновалась, зная, что он очень слаб; меня предупредили, насколько опасно и рискованно оперировать. Я взяла ответственность на себя и переживала, хотя и хотела верить в хороший исход. И вот проснулась утром (в день операции), и волнения нет и следа. Мама меня торопит, иди, мол, в больницу, а я не спеша оделась, позавтракала и, чувствуя какое-то странное успокоение и пугаясь его, пошла в больницу.
Больница была недалеко — квартала два всего. Я шла медленно, в странном оцепенении, всем существом желая хорошего исхода, смотрела не под ноги, а вперед, в пространство, в серое зимнее небо. Туман был, сыро. Вдруг я обнаружила, что все воздушное пространство наполнено как бы серебристыми бабочками, искрящимися и мелькающими, перемещающимися с места на место. Постепенно их делалось все больше, и, куда бы я ни посмотрела, все небо и все воздушное пространство над землей (а домики были по сторонам далеко от мостовой и маленькие) изобиловали ими. Направо возвышались корпуса больничного городка, а вокруг все пусто и блестят трепещущие крылышки. Я почувствовала легкость, какую-то невесомость и полное душевное умиротворение. Где-то далеко лежащая тревога за Мишу исчезла полностью. Так, медленно и всецело погруженная в созерцание невиданного явления, но не испытывая никакого удивления, будто так и надо, я дошла до нужного мне корпуса. Поднялась на второй этаж, но не вошла, а осталась стоять на лестнице у окна, как будто знала, что операция еще не кончилась. Стояла, с полчаса глядя в окно, где расстилался мутный туман и среди него искры, серебряные бабочки, трепетали и перемещались. Это было так чудесно, необычно, красиво и наполняло небывалой восторженной отрешенностью. Я стояла, пока не отворилась дверь и меня не окликнули по фамилии. Очевидно, догадались, что я стою тут, у черного хода к операционной, хода, которым пользуются только медработники. Я тут только ощутила тревогу, но не сильную, а как бы по обязанности, разум встряхнул меня: что же ты стоишь, созерцая, без мыслей о муже, который в опасности? И вот я заволновалась, но лениво и не сильно. Вошла. Врачи сказали, что операция окончилась и… рака не нашли. Ничего, кроме старых спаек от бывшей в лагере язвы. Спайки рассекли, положили все деформированные органы по местам. Послеоперационное положение было очень тяжелое, и врачи и сестры смотрели на Мишу как на не жильца на этом свете. Ему дали много наркоза и вывести из организма наркоз не могли, нужны были банки, а ему из-за старого туберкулеза ставить банки нельзя было. Я провела около него четверо суток. Все бежали из палаты — и больные и сестры. Я его поворачивала, поднимала, проветривала, обкладывала грелками. Одним словом — выходила. После этой операции он стал все есть и поправляться постепенно. Вот что со мной было? Незабываемое явление. Причем главное: рака не оказалось! Исчез, хотя на 4-х рентгенах была явно видна опухоль. Что это было?