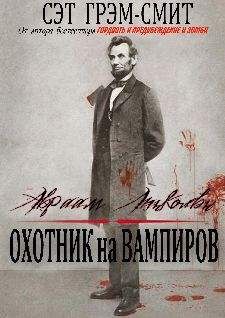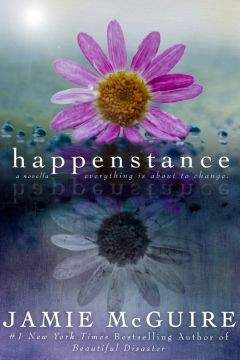Лучше девушки мир не знал! Никогда прежде не соединялись в одном теле подобные ум и красота! Она на фут ниже меня ростом, у нее голубые глаза, каштановые волосы и идеальная, сияющая улыбка. Она несколько худощава, но этого не поставишь ей в упрек, ведь подобное телосложение как нельзя лучше сочетается с ее добрым и утонченным характером. Как смогу я заснуть, зная, что она где-то там? Как смогу удержать в голове хоть единую мысль, когда она — все, о чем я в состоянии думать?
Эйб с Энн стали встречаться чаще — сначала у Ментора Грэма, в доме которого они вели оживленные споры о Шекспире и Байроне, а затем на долгих летних прогулках, во время которых беседовали о жизни и любви. Потом — на вершине любимого холма Энн, откуда открывался вид на Сангамон. Там они почти не разговаривали.
Неловко писать об этом здесь, но не могу устоять. Сегодня днем наши губы соприкоснулись. Мы сидели на покрывале и следили за редкими баржами, которые проплывали внизу. «Авраам!» — окликнула она меня. Я обернулся и с удивлением увидел ее лицо совсем рядом. «Авраам… Ты веришь словам Байрона? Что „любовь ведет порою нас тропинкой узкой. Волк подчас по той тропе идти боится“?»[23] Я ответил, что верю всем сердцем, и, не проронив больше ни слова, она прильнула к моим губам.
Я желал бы помнить этот миг до последнего вздоха. Через три месяца я должен прибыть в Вандалию, и я собираюсь наполнить каждую минуту этих месяцев свиданиями с Энн. Она сияющая, нежная и самая яркая звезда на небесах! Единственный ее недостаток — то, что при всем своем здравомыслии она влюбилась в такого недотепу, как я!
Эйб больше никогда не писал столь цветистым слогом. Ни о своей жене, ни даже о детях. Тогда он переживал сумасбродное, восторженное чувство, свойственное лишь молодости. Первую любовь.
Декабрь наступил «слишком быстро». Авраам со слезами на глазах распрощался с Энн и отправился в Вандалию, дабы принести присягу члена законодательного собрания. Перспектива оказаться «лесорубом среди ученых мужей», ранее представлявшаяся такой заманчивой, теперь вовсе его не волновала. Два долгих месяца Авраам заседал в собрании. Мысли его занимала Энн Рутледж. Когда в конце января сессия завершилась, он «вылетел за дверь, едва дождавшись стука председательского молотка», и устремился домой, чтобы провести счастливейшую весну в своей жизни.
Для меня нет музыки слаще, чем звук ее голоса. Нет картины прелестней, чем улыбка на ее лице. Сегодня днем мы сидели в тени под деревом. Энн читала «Макбета», а я положил голову ей на колени. Одной рукой она держала книгу, а другой — нежно ласкала мой лоб каждый раз, когда приходила пора перевернуть страницу. Наконец в мире все стало на свои места. Вот она, жизнь. Эта девушка — противоядие ото всей тьмы, которая отравляет наш мир. Когда она рядом, мне нет дела до долгов или вампиров. Я думаю только о ней.
Я решил просить руки Энн у ее отца. На моем пути имеется одно незначительное препятствие, но я немедленно его устраню.
«Незначительное препятствие» звали Джон Макнамар и, будучи упомянут столь небрежно, он тем не менее представлял собой серьезную угрозу их счастью.
Дело в том, что этот человек был помолвлен с Энн.
[Макнамар], я полагаю, человек сомнительной порядочности. Он признался Энн в любви, когда ей было всего восемнадцать, а затем отправился в Нью-Йорк, не дождавшись, пока они смогут пожениться. В Декейтере она получила от него несколько писем, но едва ли их можно было принять за послания влюбленного. С тех пор больше от него не приходило вестей. И все же я не успокоюсь, пока этот человек не освободит ее от обещания. Я должен собраться с силами (мне не случалось слышать, чтобы поток любви струился мирно[24]) и надеяться, что все разрешится быстро и счастливо.
Эйб сделал то, что умел лучше всего: он написал Джону Макнамару письмо.
Утром 23 августа в дневнике появилась безобидная коротенькая запись:
Пришла записка от Энн: ей нездоровится. Пойду навещу.
Лето выдалось чудесным. Авраам виделся с Энн почти каждый день. Молодые люди предпринимали долгие и бесцельные прогулки вдоль реки, украдкой целовались, уверившись, что их никто не видит (впрочем, это не имело значения: в Нью-Салеме и Клэрис-Гроув благодаря непрерывному ворчанию Джона Армстронга все поголовно знали о влюбленных).
Ее мать встретила меня на пороге и сказала, что дочь не желает никого видеть, но, заслышав наши голоса, Энн пригласила меня войти. Она лежала в постели, на груди у нее покоился раскрытый томик «Дон Жуана». С разрешения миссис Рутледж мы остались наедине. Я взял Энн за руку и почувствовал необычное тепло. Я заволновался, но девушка только улыбнулась.
«Просто жар, — успокоила меня она. — Это пройдет». Мы беседовали, но меня не оставляло ощущение, что ее что-то беспокоит. Нечто большее, чем летняя простуда. Я начал задавать вопросы. Энн расплакалась, чем подтвердила мои подозрения. Слушая ее, я с трудом верил своим ушам.
Джон Макнамар, давно сбежавший жених Энн, вернулся.
«Он приходил ко мне позавчера вечером, — сказала она. — Эйб, он был в ярости. Выглядел как безумец, вел себя странно. Он рассказал о твоем письме и потребовал, чтобы я сама дала ответ. „Скажи, что ты любишь другого! — воскликнул он. — Скажи, и я сегодня же оставлю город и никогда не вернусь!“»
Энн дала ответ: она никого не любит, кроме Авраама Линкольна. Макнамар уехал немедленно, как и грозился. Энн его больше не видела. Запись, сделанная тем вечером, отражает всю ярость Эйба:
Я написал Макнамару о нашей любви, просил его, как благородного человека, освободить ее от обещания. Вместо ответа он проделал путь в тысячу миль, чтобы не упустить женщину, о которой позабыл на целых три года! Сначала он ее отверг, а теперь решил предъявить свои права! Негодяй! Если бы я был с ней, когда появился этот трус, я бы разнес ему череп, а из кожи со спины выкроил бы ремни для правки бритв! И все же я рад, ведь он ушел, а вместе с ним — и единственное препятствие на пути к нашему счастью. Больше не стану откладывать! Как только Энн поправится, приду к ее отцу и попрошу ее руки.
Но Энн так и не поправилась.
К тому моменту, как утром 24 августа Эйб снова навестил девушку, она уже была так слаба, что едва могла выговорить несколько слов. Жар усилился, дыхание ослабело. К полудню она уже вовсе не могла говорить и то и дело теряла сознание. Когда Энн приходила в себя, ей мерещились кошмары, а все тело сотрясалось так, что кровать стучала по полу. Родители Энн сидели вместе с Эйбом у ее постели — меняли холодные компрессы, зажигали свечи. Доктор суетился вокруг больной с самого полудня. Поначалу он был «уверен», что это брюшной тиф. Теперь уверенность исчезла. Бред, судороги, беспамятство — и все это в столь короткий срок? Ему не доводилось видеть ничего подобного. А Эйбу доводилось.